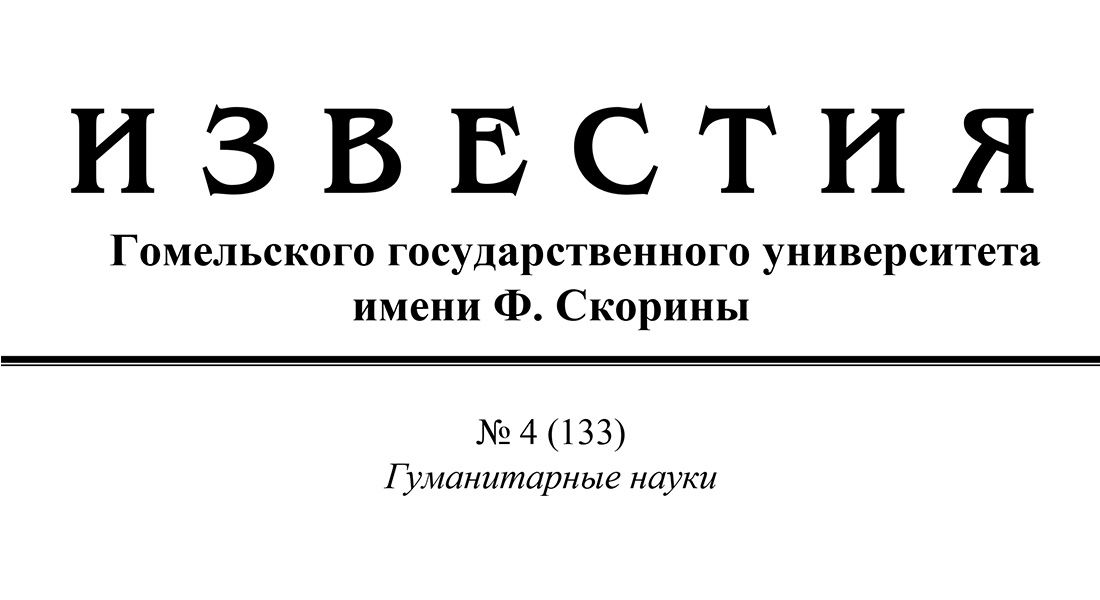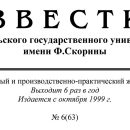В статье рассмотрена первая попытка создания в Гомеле рабфака — учебного заведения, которое, по задумке советской власти, должно было готовить кадры соответствующих классов для поступления напрямую в Высшую школу. Автор передаёт основные положения, согласно которым существовали рабфаки в РСФСР в начале 1920-х годов, а также на архивных материалах — основные направления, проблемы и достижения рабфака в Гомеле в 1923-1924 учебном году. Таким образом много архивных данных вводится в научный оборот.
В начале ХХ века произошли серьёзные изменения на политической карте Европы. В результате Первой мировой войны некоторые государства исчезли, другие появились. Кроме этого, социальные потрясения положили начало разделению мира на капиталистический и социалистический лагеря. Территория Беларуси в виде БССР и, в частности, нынешняя Гомельщина, относилась к последнему. Правда, до 1924-1926 гг. она входила в состав БССР лишь частично. Сам Гомель являлся центром губернии РСФСР.
Советская власть строила страну с открытых и ясно провозглашенных классовых позиций. И здесь существовала большая проблема: рабочие и крестьяне не только не имели высшего образования (в любом случае в своём абсолютном большинстве), но и традиций к ней стремиться. Специалисты же, которые имели высшее образование, естественно, были нужны и востребованы как в технической, так и в гуманитарной сфере. Власти использовали существовавшие кадры. Однако одновременно и стремились насытить вуз студентами из «правильных» классов: рабочими и трудовым крестьянством. Обеспечить не только поступление их в вуз, но и возможность там учиться (ввиду плохих «стартовых позиций» в плане уровня образованности) должны были рабочие факультеты, или рабфаки.
Согласно «Положению» о рабочем факультете, его целью была «Подготовка к занятиям в высших учебных заведениях исключительно лиц из среды пролетариата и трудового крестьянства» [1]. В Гомеле рабфак был впервые открыт в 1923-1924 гг. и просуществовал только названный учебный год. Рабфаки, прежде всего, открывали в самих высших учебных заведениях. Однако в крупных городах, по согласованию с управлением профессионального образования Народного комиссариата просвещения, также открывали. Именно этим и воспользовались в Гомеле. Согласно выписке из протокола №49 Бюро Гомельского губкома РКП (б) от 13 августа 1923 года, до 15 сентября рабфак должен был быть открытым [2].
Подготовительную работу активно проводили летом 1923 года. Рабфаку передали здание бывшей женской гимназии по улице Билецкого, дом 8. Можно констатировать, что бурные события установления в Гомеле советской власти для бывшей гимназии не прошли просто. Во всяком случае, в комиссию по приёмке ремонтных работ в начале сентября был специально приглашён инженер товарищ Брагинский [3]. Также делались заказы различным предприятиям и частным мастерам Гомеля на изготовление разного рода мебели [4].
Заведующим рабфаком был Янковский Рафаил Акимович, который проходил по Штатам с квалифкацией журналист. Штат сотрудников большим не был. Учебной частью заведовал специально приглашённый со Стародуба (пришлось и семью перевозить) Мейер Всеволод Павлович. Интересно, что в выписанном ему удостоверении присутствует название Гомельский рабочий факультет имени 25-летия РКП [5], а позже в названии стало употребляться имя В.И. Ленина, из-за чего Янковскому даже пришлось ехать в Москву давать обоснование этому, так как отдел рабфаков управления профессионального образования не очень охотно соглашался на присваивание «громких» названий, о чём разослал специальный циркуляр [6]. На август в ведомости на жалованье административно-хозяйственному персоналу значатся также делопроизводитель Солунский и машинистка Аронова [7]. Существовала и некоторая «текучка» кадров. Ту же Аронову уже 2 сентября откомандировали на биржу труда «как неудовлетворившую требования работы на Рабфаке» [8]. Самый большой штат административно-хозяйственных сотрудников почти не превышал десяток человек: заведующий рабфаком, заведующий учебной частью (он же и преподавал), секретарь (был из учащихся), завхоз, комендант, управляющий делами, машинистка, библиотекарь, сторож и две уборщицы. При этом сокращения происходили периодически, особенно после объявления о ликвидации Гомельского рабфака.
Согласно общепринятой структуре рабфак состоял из следующих подразделений. При заведующем создавался президиум (от 3 до 5 человек), в состав которого также входили заместители по учебным и студенческим делам и по желанию представители губисполкомов, губернских советов профсоюзов, губкомов РКП(б) и др. Семестровые и годовые отчеты, планы развития, расходы и т.д. рассматривал Совет рабочих факультета: президиум, 5 преподавателей, 5 студентов, представители правления вуза, губисполкома, губкома РКП(б), РКСМ, а по согласованию с руководством рабфака – и представители хозяйственных организаций. Не реже 2 раз в месяц должны были созываться предметные комиссии для обсуждения распределения предметов между преподавателями, выполнения программы, результатов обучения и др. Состояли они из равного количества преподавателей предмета и студентов. Не реже 2 раз в семестр созывались курсовые совещания (количество студентов на них должно было соответствовать количеству преподавателей) для обсуждения объёма знаний, внутренней согласованности между курсами, перемещения и количества студентов в группах, успеваемости и т.д. органом студенческого самоуправления были групповые тройки [9].
Согласно «Положению» работать в рабфаках могли преподаватели вузов, «а также лица, обладающие достаточным педагогическим или научным стажем» [10]. На заседании президиума Гомельского рабфака (7 сентября 1923 года) были созданы три предметные комиссии: физико-математическая, естественнонаучно-географическая и гуманитарная. Первую возглавил Гольдбурт, вошли в состав Мейер, Порибок, Альтшулер, Громыко. В остальных председателей не избрали. Естественнонаучно-географическую составили Балабушевич, Мицеров, Рассаткевич, Воронов. А в гуманитарную комиссию вошли Бирюкович, котов, Козлов, Гройпинер, Янковский, Куница, Вирганский [11]. Тут же решили, что занятия начинаться будут в девять утра и тянутся 45 минут (перерывы – по 10). Что касается количества уроков в неделю для преподавателя, то она, наверное, зависела от предмета: от 5-6 (Куница, Козлов, Янковский, Вирганский) до 14-16 (Бирюкович, Альтшулер, Гольдбурт, Рассаткевич). Примерно таким же составом преподавателей рабфак и закончил учебный год. Только в первом семестре за систематические пропуски занятий и отсутствие контакта с группами был уволен географ Мицеров.
Что касается набора, то он регламентировался по нескольким направлениям. Претенденты должны были иметь 18-летний возраст. Их трудовой стаж должен был составлять не менее трёх лет, причём работа должна была выполняться физическая (промышленность, сельское хозяйство). В стаж этот засчитывали срок службы в Красной Армии. Происхождение абитуриентов — пролетарии или крестьяне. Но до последних вводили ещё одно требование: они должны быть из семей беднейших земледельцев, которые три последних года работали без эксплуатации чужого труда. Если в волости имелась ячейка РКП или РКСМ, то желательно была её рекомендация. Те, кто не имел в предыдущие три года стажа непосредственной физической работы, могли стать учащимися рабфаков, когда были коммунистами (комсомольцами) такой же промежуток времени. Но это только, если на факультете после прислания заявлений оставались свободные места.
Все, кто соответствовал указанным критериям, должны были проходить вступительные испытания. Претендент должен уметь бегло читать и писать по-русски и знать четыре действия (сложение, исчисление, умножение и деление) над целыми цифрами. Диалектичность подхода заключалась в том, что, с одной стороны, неоднократно циркуляры подчеркивали, что нельзя перегибать со сложностью. Некоторые ошибки в письме или слабое понимание прочитанного не должны стать препятствием для зачисления на рабочий факультет [12]. С другой, не менее решительно циркуляры осуждали превращение рабфаков в ликбезы [13].
Кроме этого существовала разверстка. В основном, размещение кандидатов должно было соответствовать пропорции: 60% – от профсоюзов, 30% – от парторганизаций, 10% — от земледельцев. В мандатную комиссию для проведения вступительных испытаний включались представитель президиума рабфака (глава комиссии), представители Губпрофсовета (упрафбюро), губкома(укама) РКП (б), РКСМ, местного отдела народного образования и два представителя комсомольской ячейки рабфака. Испытания должны были начинаться не ранее 1 июня [14].
Открывшийся в Гомеле рабочий факультет должен был обучать 150 человек, из которых «100 на полном госиждивении, а 50 человек на собственном иждивении и за счёт командирующих учреждений» [15]. Доказываемая пропорция не выдерживалась, так как между профсоюзами и парторганизациями места разделили поровну. Из 75 профсоюзных места распределялись между 21 Союзом, причём на полном гособеспечении учиться должны были 50 человек без детального их распределения. Для тех, кто шёл от парторганизаций губернии, квоты вводились следующие: Гомельский горрайисполком: за гособеспечение – 6, за собственный – 4-10 человек, Новобелицкий, соответственно – 5 и 3-8, Залинейный – 5 и 2-7, Клинцы получили 5 и 2-7 мест, Могилев – 3 и 2-5, Новозыбков – 4 и 2-6, Гомельский уезд – 2 и 2-4, Рогачев – 3 и 2-5, Климовичи – 3 и 1-4, Стародуб – 3 и 2-5, Речица – 3 и 2-5, Чериков – 2 и 2-4, губернский комитет – 5 [16]. Таким образом, если бы все парторганизации прислали максимально возможное количество людей, то только за собственный счёт прибыло бы учиться 70 человек. Что касается крестьянской бедноты, то её квоту передали парторганизациям, решив, что даже беспартийных будут допускать к испытаниям только по рекомендации волостных исполнительных комитетов РКП, предпочитая демобилизовавшихся красноармейцев. При этом доля крестьян-земледельцев должна была составить 25% от всех представленных парторганизациями [17].
Во время вступительной кампании, конечно, некоторые моменты по персоналиям можно было урегулировать. Так, Залинейный район не занял свои три места, поэтому их предложили Дарпрофсоюзу [18]. С Гомельским горрайкомом тоже пришлось переписываться: некоторые откомандированные не появились, два представителя этого партийного учреждения не прошли испытания, были заявлены замены, однако, на 17 сентября 1923 года два места за свой счёт были свободными [19]. А, например, некто гражданин деревни Потаповка Буда-Кошелёвской волости Рогачёвского района Георгий Андреевич Кортелев, получил отрицательную резолюцию на зачисление ещё 31 августа «за неимением вакансии» [20].
Ещё до начала вступительных испытаний (11 сентября) было проведено совещание с представителями партийных органов и различных отраслевых профсоюзов. Выступая на ней, Янковский пояснил, что рабфак без помощи предприятий губернии не сможет содержать всех 150 студентов, имея в виду тех, кто не был на гособеспечении. Поэтому он ультимативно предлагал представителям соответствующих профсоюзов заключить с рабфаком договоры на оплату за своих студентов. В противном случае эти учащиеся оказались бы наедине с проблемой своего содержания. Высказываясь в ответ, глава губпрофобразования Маковский резко выступил против принятия подобных студентов на обеспечение рабфаком за финансовую компенсацию от профсоюзов. Он заявил, что «стипендии либо вовсе не будут получаться, либо будут поступать неаккуратно». Однако представители профсоюзов заверили, что проблем не будет. Поэтому решили, что рабфак обеспечивает всех своих учащихся всем одинаково. А за это ежемесячно получает деньги от профсоюзов в тех же размерах, что и госстипендия [21]. Надо заметить, что Маковский во многом имел права. Периодически руководству рабфака приходилось напоминать различным профсоюзам о необходимости не то, что наперед внести деньги за своего студента (а договаривались переводить в красном начислении не позднее 30 числа текущего месяца за будущий), но и требовать погасить расходы за истекший период и даже снимать несколько студентов с произвола. Однако последней мерой не злоупотребляли. По мере возможности наоборот старались поспособствовать тому, чтобы студенты больше думали об учёбе, чем о способе существования, и ходатайствовали об их переводе на обучение за государственный счёт. Как пример, можно привести сохранившийся лист-заявление от кого-то Калинкова. Заявление написано было студентом карандашом, причём не самым понятным почерком, не всегда литературным языком. Смысл просьбы в том, что он, Калинков, три года отслужил в Красной Армии, был на фронте, боролся с бандитами в Чериковском уезде. После демобилизации был избран в председателя сельсовета «проводил строгую классовую прямоту … добросовестно и аккуратно без всяких попустительств и уступок местным кулакам, почему имею много врагов, которые не сумели бороться со мной в открытой борьбе, решили пойти на… преступление, чтобы убрать меня». Описывалась ночная перестрелка, из которой Калинков вышел победителем. В рабфак он поступил за свой счёт. Но «родители учить меня отказались увидеть того, что не имеют средств». И чтобы не дать возможности местным «кулакам и прочим негодяям» порадоваться (а они говорили: «куда с его карманом учиться»), Калинков просит перевести его на гособеспечение. На заявлении за подписью Янковского и датой 25 сентября 1923 года стоит резолюция о направлении соответствующего ходатайства в Гомельский уездный исполнительный комитет [22]. Подобные же просьбы, правда без сохранившихся детальных и красочных обоснований, писали и несколько других студентов.
28 сентября 1923 года прошло заседание президиума рабфака, на котором обсуждали итоги вступительной кампании. Её проведение, в целом, было признано удовлетворительным, хотя развёрстку по крестьянам не выполнили. Оставались 10 стипендий от Гомельского исполнительного комитета, которые предлагали распределить, по-возможности, по 1 на уезд, но студсовет должен был за два дня выявить наиболее нуждающихся, особенно среди семейных [23], что и было сделано.
Здесь же решили, что, кроме занятий, нужно определить дни для дополнительных консультаций с 17.00 до 19.00 для отстающих (2 дня по русскому языку и 2 дня по математике). Запланировали и открытие кружков: естественнонаучного, литературного, обществоведения, спортивного, хорового и литколлегию. По возможности, проводить их силами собственных преподавателей. При необходимости, привлекать внешних совместителей [24]. Основной распорядок дня утвердили 22 октября. С понедельника по субботу рабфаковцы учились с 9.00 до 14.30. Потом до 17.00 — свободное время на обед и отдых, после чего начинались двухчасовые консультации и подготовка уроков. Кружки действовали с 19.00 до 21.00: литературный и обществоведческий в понедельник и пятницу, естественнонаучный в среду, спортивный во вторник (18.00–21.00) и воскресенье (9.00–13.00). В воскресенье же в 17-ой собирался хор. Оставалось два вечера, которые распределили так: по четвергам с 19.00 был партдень, а в субботу с 19.00 – союзный день.
Много внимания уделялось и созданию библиотеки. Еще в августе поднимался запрос на выделение 6000 рублей на приобретение учебных пособий и литературы. Однако, как отмечал Янковский, 10 ноября выделили на эти цели только 2500 рублей [25]. Тем не менее, книги приобретались как в местном магазине, так и в Москве, даже несмотря на перерасход. На 19 ноября 1923 насчитывалось более 2500 книг, в основном учебных. Обеспеченность учебниками оценивалась 3-5 человек на 1 книгу. Подавляли другие нужды, прежде всего, административно-хозяйственные расходы [26].
Что касается непосредственного учебного процесса, то Москва требовала, чтобы рабочие факультеты не использовали традиционный лекционный метод. Вместо него вводился лабораторно-исследовательский. Он упоминается в циркуляре отдела рабфаков Главпрофобра №15 от 23 мая 1923 года [27], а потом несколько раз о нём напоминали. Суть метода — практикоориентированность, если говорить современным языком. Студенты должны были делиться на группы, больше времени проводить в лабораториях, решать практические задания. Требовалось вводить экскурсии, расширять подготовку учащимися докладов и рефератов. Что касается новых учебников и пособий, а тем более оборудования для лабораторий, то отмечалось, что пропитка ими – дело долгое. Предлагалось больше опираться на собственные возможности и силы.
Даже учебные программы на 1923-1924 г. утвердить обещали не ранее 15 октября [28] (по факту прислали гораздо позже, когда первый семестр уже закончился). Ориентироваться нужно было на проект, принятый на ІІ Всероссийском съезде рабфаков и опубликованный в журнале «Знамя рабфаковца». Изменения касались русского языка (и литературы), обществоведческих наук, физики, химии, естествознания и географии.
Что касается истории, то было решено упразднить разделы, посвящённые древности (Восток, Греция, Рим). Очерками давалось первобытное общество, средневековье Европы. Основу курса стала составлять так называемая эпоха «промышленного капитализма». При этом отмечали, что основное внимание следует уделять хозяйственным формам, потом – экономической структуре общества. Идеологические моменты — в последнюю очередь. Явный переход к упрощённой марксистской схеме истории. Можно понять, почему из русской литературы оставили для младшего курса лишь небольшие рассказы о классовой борьбе, а на старших – околомарксистскую литературу рубежа веков. Труднее объяснить, почему, например из русского языка убрали почти всю фонетику, с химии – органику [29]. Если возвращаться к истории, или обществоведению вообще, то циркуляр отдела рабфаков №24 требовал пересмотреть списки преподавателей, причём, в первую очередь, как раз указанных курсов. Требовалось прислать в отдел их списки, анкеты, отзывы учебной части и президиума рабфака о деятельности преподавателя, такие же отзывы комячейки групп, в которых он работает (можно общим опросом, можно через групповые тройки) [30].
Преподаванию обществознания (во всяком случае выполнению программы) именно в 1923-1924 учебном году не способствовало и постановление Наркомпроса от 8 ноября срочно приостановить этот курс и вместо него провести «лекции, беседы и занятия по вопросам международной обстановки в связи с событиями в Германии» [31]. Присылалась программа лекций и бесед, которая сама тянет на хороший курс вуза (4 раздела). И отдельно от этой же даты вышел циркуляр отдела рабфаков срочно выполнить данное распоряжение [32].
Для текущего контроля освоения курсов проводились групповые конференции. По результатам проверки количество неуспевающих студентов в каждой из 4 групп было примерно одинаковым и равным. Вполне успевающими был 91 студент. Проблемы с одним предметом имели 36 человек, с двумя-12, с тремя – 6 [33]. Таким образом, проблемы с обучением имели 54 человека, то есть более половины от тех, кто их не имел.
31 декабря 1923 года заслушали председателей предметных комиссий по итоговой успеваемости за семестр. Председатель по русскому языку Бирюкович отметил, что контингент взрослый, но до поступления книг не читали и печатный текст вначале разбирали с трудом. Поэтому преподаватели сосредоточились на элементарных знаниях и навыках. Грамматические занятия также привязывались к чтению. Поэтому успели меньше, чем положено и планировали. Докладчик отметил, в целом, «слабую подготовленность к систематической умственной работе, отсутствие дисциплины мысли, готовность к какому-либо отвлеченному мышлению». Более оптимистичным был председатель по математике Гольдбурт. Он перечислил, отметив первоначальные трудности, достаточно большие успехи студентов. Закончил он достаточно поэтическим сравнением: «Говорить об обязательном результате трудно. Мы перешли от механического усвоения к идеальному, пришли к необходимости осознавать то, что делается. Словом, состав переходит на новый путь, стрелка переведена». Возникает вопрос: то ли речь идёт о других студентах, то ли странным образом состав рабфаковцев подобрался с математическими наклонностями, то ли нужно уметь преподавать (либо делать доклады? ), находить подход к сложным ученикам. Нужно заметить, что и Гольдбурт, и ещё один преподаватель математики Альтшулер несколько раз ездили в командировки в другие рабфаки страны для подражания опыту преподавания. Но оптимистические настроения полностью исчезают при чтении доклада председателя комиссии по природоведению и географии Мейера. Тот, конечно, отметил фактор Митерева (о нём — выше). Но к главной причине невыполнения плана преподавания по курируемым им курсам отнес отсутствие знаний у поступивших на факультет. Старались использовать лабораторный метод, но не по всем темам это было возможно. Председатель комиссии по обществознанию отметил, что из-за существовавших трудностей (отсутствие программы, прежнее, чем предполагалось окончание семестра, пропуски занятий некоторыми преподавателями) удалось лишь наметить основные проблемы обществознания и первобытной истории. Игнорировали в Гомеле и изучение «германской революции», «частично за нехваткой времени, а также потому, что было решено отложить это до тех пор, пока не будут пройден период империализма и эпоха мировой войны». Мейер сделал и общие выводы: полностью задачи на семестр не выполнили, но новые методы преподавания, исключающие лекции, преподаватели усвоили. Оценки, которые выставляли преподаватели, совпадали, в большинстве, с теми, что ставили товарищам группы. В итоге ставились три отметки: «успешно, недостаточно успешно и не успешно». Результаты: 50% студентов успевали по всем предметам, 25% не успевали по одному, 9% – по двум, 10% – по трем, 6% – более чем по трём [34].
Был поставлен вопрос об отчислении (как тогда писали – увольнении) некоторых студентов. Но представитель губернского отдела образования Маковский настоятельно советовал уволить только одного (по студенту Егорову появились подозрения в неблагонадёжном происхождении). В конце концов неуспевающие студенты продолжили учиться ещё один семестр.
Обучение во втором семестре продолжалось практически по тем же курсам. Успешность немного выросла. Интересно, что те студенты, которых предлагали уволить по итогам первого семестра, так и не отправились.
Однако главной проблемой Гомельского рабфака была финансовая. И она сопровождала его весь учебный год. В 1923 календарном году приходилось несколько раз просить у губфинотдела кредиты из-за несовпадения начала финансового и учебного годов. Однако это решили. О проблемах с переводом средств на содержание студентов, командированных профсоюзами уже упоминалось. Они были весь год. К примеру, 7 мая 1924 года было прислано напоминание директору завода «Пролетарий». Напоминание заканчивалось эмоционально: «Отговорка незнанием является или недопустимой в данное время канцелярской волокитой, или же нежеланием платить вовсе» [35].
Однако главную проблему финансового плана для Гомельского рабочего факультета принесло первое укрупнение БССР. 26 ноября 1923 года губисполком через заведующего губернским отделом народного образования Гартмана прислал распоряжение «в связи с отходом некоторых уездов к Беларуси… предлагается вам сделать сокращение слушателей вверенной Вам школы на 20%». Из документа следует, что это не было направлено именно против рабфака, так как подобные распоряжения получили в так называемой «Школе деревенщиков» и Губпартшколе. Срок давали до 3 марта [36]. 1 марта на заседании губисполкома мнения о сокращении разделились.
Янковский попытался добиться переориентации финансирования из Гомеля на Москву, хотя бы частично. Он обосновывал это тем, что из губернии в состав БССР передаются в основном сельскохозяйственные районы. А в рабфаке земледельцы составляют абсолютную убыль. Основные же промышленные центры с фабриками остаются в губернии (текстильная фабрика и кожзавод в Клинцах, бумажные фабрики в Добруше и Сураже (третье место по производству в РСФСР), спичечные заводы в Новозыбкове, Речице и Гомеле, лесозаводы и химпромышленность в Гомеле). Поэтому сокращать количество студентов рабфака нецелесообразно, тем более, что причины только финансовые, а к деятельности факультета претензий нет [37]. Однако из Москвы пришёл лаконичный отказ [38]. Если просмотреть циркуляры отдела рабфаков того времени, бросается в глаза тема сокращения, согласования с вузами наборов, более жёсткого отношения к поступающим на рабфаки и т.д. Поэтому просьба Янковского шла явно вразрез с данной линией.
Учебный процесс продолжался. Рабфак получал распоряжения о правилах набора на следующий учебный год. Однако некоторая нервозность на рабфаке существовала. В результате 30 апреля 1924 года коллегия Главпрофадука решила, а 20 мая коллегия Наркомпроса утвердила постановление о закрытии с 1 июля Гомельского рабфака. Те студенты, кто удовлетворял правилам приёма на новый учебный год, а также выразил такое желание, переводились в целом в Смоленский рабфак. Студентов из Беларуси — в белорусские рабфаки [39].
Для администрации прибавилось работы: составлялись списки переводившихся в Смоленск [40], массово писались характеристики на преподавателей и сотрудников. В итоге 104 учащихся перевели на второй курс Смоленского рабфака, преподаватели и сотрудники получили «премии» из фонда собранной библиотеки. Гомельский рабфак был закрыт. Но, как оказалось, ненадолго. Уже в составе БССР рабочий факультет в Гомеле был открыт заново.
Первая же попытка показала, что даже за один учебный год, даже в условиях, когда знания не являются основным показателем, чтобы стать учащимся, добиваться хороших результатов можно. Несмотря на то, что большинство преподавателей Гомельского рабфака были совместителями, они старательно делали здесь свое дело, поднимая «нулевой» уровень своих студентов.
В.У. Цецарин, Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины
Литература
1. Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці (ДАГВ). – Ф. 112. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 1.
2. ДАГВ. – Ф. 112. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 5.
3. ДАГВ. – Ф. 112. Воп. 1. Спр. 7. Арк. 2.
4. ДАГВ. – Ф. 112. Воп. 1. Спр. 7. Арк. 28, 31, 33.
5. ДАГВ. – Ф. 112. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 3.
6. ДАГВ. – Ф. 112. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 75.
7. ДАГВ. – Ф. 112. Воп. 1. Спр. 7. Арк. 15–16.
8. ДАГВ. – Ф. 112. Воп. 1. Спр. 7. Арк. 59.
9. ДАГВ. – Ф. 112. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 1–4.
10. ДАГВ. – Ф. 112. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 3.
11. ДАГВ. – Ф. 112. Воп. 1. Спр. 2. Арк. 1.
12. ДАГВ. – Ф. 112. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 12.
13. ДАГВ. – Ф. 112. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 204.
14. ДАГВ. – Ф. 112. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 12.
15. ДАГВ. – Ф. 112. Воп. 1. Спр.7. Арк. 18.
16. ДАГВ. – Ф. 112. Воп. 1. Спр. 7. Арк. 18.
17. ДАГВ. – Ф. 112. Воп. 1. Спр. 7. Арк. 18–19.
18. ДАГВ. – Ф. 112. Воп. 1. Спр. 7. Арк. 67.
19. ДАГВ. – Ф. 112. Воп. 1. Спр. 7. Арк. 79.
20. ДАГВ. – Ф. 112. Воп. 1. Спр. 7. Арк. 40.
21. ДАГВ. – Ф. 112. Воп. 1. Спр. 7. Арк. 68.
22. ДАГВ. – Ф. 112. Воп. 1. Спр. 7. Арк. 90.
23. ДАГВ. – Ф. 112. Воп. 1. Спр. 2. Арк. 4.
24. ДАГВ. – Ф. 112. Воп. 1. Спр. 2. Арк. 4.
25. ДАГВ. – Ф. 112. Воп. 1. Спр. 2. Арк. 7.
26. ДАГВ. – Ф. 112. Воп. 1. Спр. 3. Арк. 26.
27. ДАГВ. – Ф. 112. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 23.
28. ДАГВ. – Ф. 112. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 29.
29. ДАГВ. – Ф. 112. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 29–30.
30. ДАГВ. – Ф. 112. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 24.
31. ДАГВ. – Ф. 112. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 61–67.
32. ДАГВ. – Ф. 112. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 58.
33. ДАГВ. – Ф. 112. Воп. 1. Спр. 3. Арк. 2.
34. ДАГВ. – Ф. 112. Воп. 1. Спр. 3. Арк. 2–9.
35. ДАГВ. – Ф. 112. Воп. 1. Спр. 120. Арк. 122.
36. ДАГВ. – Ф. 112. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 117.
37. ДАГВ. – Ф. 112. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 131.
38. ДАГВ. – Ф. 112. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 135.
39. ДАГВ. – Ф. 112. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 212.
40. ДАГВ. – Ф. 112. Воп. 1. Спр. 2. Арк. 32.
Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины, №4 (133), 2022
Перевод Александра Флегентова