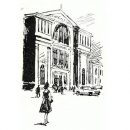История отдельных гомельских храмов не раз освещалась в различных литературных источниках и научных изданиях, основанных на документах Национального исторического архива Беларуси, Национального Государственного архива Гомельской области, статей Могилёвских епархиальных ведомостей и иных письменных источниках.
Авторы-составители выражают благодарность и особую признательность кандидату исторических наук доценту Андрею Дмитриевичу Лебедеву и члену Церковно-исторической комиссии Гомельской епархии Андрею Васильевичу Ананьеву за плодотворное сотрудничество и предоставленные материалы при подготовке данного исторического очерка.
Постройка приходской церкви для либаво-роменских рабочих и служащих не имела своего благополучного исхода. Однако данная идея не потеряла своей актуальности, и к делу подключились работники Полесских ж.-д., по инициативе которых 31 марта 1900 года было учреждено «Попечительство о построении привокзальной церкви в г. Гомеле». В состав Попечительства вошло около 120 человек.
Второй городской железнодорожный вокзал — Полесский — располагался на одноимённой ж.-д. линии, в Залинейном районе, на расстоянии одной версты от Л.-Р. вокзала (ныне вокзал станции Гомель, ул. Привокзальная, 3), но точное местонахождение его со временем было утрачено. Предполагается, что находился Полесский вокзал на территории нынешнего ОАО «Гомельский электромеханический завод», около которого и сейчас имеются перрон и остановка «Никольская» для поездов пригородного сообщения, или расположенного рядом областного наркологического диспансера (ул. Никольская, 26).
Очевидно, что замысел об учреждении Попечительства возник гораздо ранее его официальной регистрации, не позднее 1899 года. С выбором места строительства на этот раз проблем не было, т. к. в число попечителей вошли князья Паскевичи — Фёдор Иванович (1828-1903) и его супруга Ирина Ивановна (1835-1925), которые и пожертвовали участок земли (плац) площадью 1200 кв. саж., расположенный недалеко от вокзала, у места соединения Полесской и Л.-Р. железных дорог.
Здесь следует отметить, что создание железнодорожниками разного рода Попечительств в то время имело широкое распространение. В основном, они создавались для благотворительных мероприятий и существовали за счёт личных взносов его членов. Например, в марте 1896 года возникло Попечительство о недостаточных учениках Гомельского технического железнодорожного училища, в состав которого входило около ста членов. В 1897 году за счёт пожертвований, поступивших от бывшего начальника Службы подвижного состава и тяги Л.-Р. ж.-д. Цитовича А. П., Попечительство построило общежитие, в котором бесплатно содержалось 15 беднейших учеников училища, а до этого времени 10-ти беднейшим ученикам полностью возмещалось проживание на частных квартирах. В 1898 году, за счёт добровольных взносов, четырём ученикам, проживавшим в общежитии, было сделано полное обмундирование, а всего же в этом году в пользу Попечительства поступило 1574 руб. (среди них 750 руб. казённой субсидии), из которых на благотворительные цели израсходовано около 982 руб.; училище в это время состояло из 3-х классов, в которых обучалось 89 учащихся.
Первое собрание новообразованного Попечительства о постройке ж.-д. церкви состоялось 28 мая 1900 года. Началось оно с благодарственного молебна, совершённого двумя городскими священниками — Свидерским и Страдомским (оба законоучители ж.-д. школ), а благочинный протоиерей Петрашень не смог присутствовать на собрании по болезни. Далее собрание избрало членов руководящего Совета Попечительства, председателем которого стал жандармский чиновник и подполковник Николай Павлович Касаткин, и обосновало необходимость постройки нового храма тем, что только одних православных служащих при Гомельских Полесских ж.-д. было 702 души муж. и 399 душ жен. пола, а с учётом жителей прилегающих деревень — Старая и Новая Мильча, Лещинец и Титенки — всех верующих насчитывалось около 6050 душ. При этом городские железные дороги имели несколько школ и училищ, большинство учащихся которых составляли дети православных.
Председатель попечительского Совета в своём выступлении сказал следующее: «…Долго и тщетно каждый из нас лелеял мечту иметь поближе храм Божий. Мы все… заняты по часам и минутам… и ощущаем крайнюю потребность помолиться в храме Божием, но не могли этого исполнять по отдалённости от существующих в Гомеле церквей. Умилительные всенощные нам приходилось выслушивать на вокзале, среди буферных столов, в мастерских рядом с верстаками и, в лучшем случае, в детской школе, где ничто не приспособлено для Богослужений. Литургию же здесь поблизости нам вовсе не приходилось слышать, разве только иногда заедет с Полесских дорог Вагон-Церковь, да и то один-два раза в год. Святые Таинства и христианский долг мы вынуждены были совершать в отдаленных церквах наскоро, без должного молитвенного настроения, так как служба не позволяла. Сообщение с городскими церквами, особенно в распутицу, было сопряжено с большими неудобствами. Дети наши, школьники, подчас плохо одетые, должны были ходить в церковь за три-четыре версты. Наша железнодорожная служба, вынуждающая часто отступать от повседневных привычек, превращающая день в ночь и рот, при постоянном напряжении не даёт возможности сотворить как должно ежедневных молитв…»
Начало было положено, и Совет занялся поиском средств на строительство новой церкви, но в первую очередь требовалось наличие архитектурного плана. В Управлении Полесских дорог не было такого специалиста, поэтому было решено искать его на стороне или получить готовый план какого-нибудь действующего храма. Касаткин порекомендовали обратиться к архитектору В. П. Семячкину, который проектировал постройку церкви в Сияжском мужском монастыре Саранского уезда Пензенской губернии, и данный архитектор 20 июня 1900 года сообщил, что готов составить проект церкви без колокольни и свою работу оценивает в 300 рублей. Кроме того, аналогичное предложение Касаткин сделал минскому специалисту А. Сташкевичу, который 10 июля ответил, что тоже готов составить необходимые документы, но за свою работу он просил 1% от стоимости проекта, который, по предварительным оценкам, составлял около 45-50 тысяч рублей, но с учётом того, что храме должно поместиться до одной тысячи человек.
Отсутствие дальнейшей переписки с данными специалистами показывает, что их предложения были отклонены, и здесь, в первую очередь, сказалось отсутствие достаточных финансовых средств. В итоге, было принято решение обратиться за помощью к руководству Конотопского отделения Московско-Киевской железной дороги, т.к. украинские железнодорожники к этому времени на ст. Конотоп уже имели действующую церковь. Готовые архитектурные документы значительно удешевили бы строительство Полесской, и 20 октября было направлено соответствующее прошение на их получение. Но неожиданно случились непредвиденные препятствия: в Конотопе необходимых документов не оказалось, и ответным письмом от 4 ноября 1900 года начальник отделения сообщил, что прошение Совета перенаправлено в вышестоящую организацию, в частности — управляющему дорогой инженеру С. В. Мошкову.
Параллельно начался сбор финансовых средств. Изначально предполагалось, что рабочие и служащие свои пожертвования будут вносить по подписным листам, но начальник Полесских дорог (г. Вильно) отказал в этом по причине отсутствия данного вида сбора в уставе Попечительства. Но вместе с тем он разрешил поставить две кружки для добровольных приношений: одну в станционном здании, другую — в мастерских при депо. Одобрила выставление кружек и Могилёвская консистория, но с условием, чтобы их опечатали печатью Попечительства. Но своей печати оно не имело, и только лишь в марте 1901 года выставили кружки с печатями станционных начальников.
Кроме того, были разосланы письма наиболее состоятельным гражданам Гомеля, ближайших уездов и других городов с просьбой оказать посильное пожертвование «… на сооружение… православного храма в г. Гомеле, при слиянии двух железных дорог…»
В это же время возникли трудности не только с поиском архитектурного плана и выставлением кружек, но и с оформлением подаренного «плаца». Управляющий Гомельским имением Паскевичей уведомил Совет, что дарственная не может быть оформлена на Попечительство, так как оно является временной организацией, поэтому землю следует оформить на Управление Полесских дорог. 14 февраля 1901 года Касаткин направил ходатайство управляющему с просьбой ускорить принятие земли, т. к. без этой формальности нельзя приступить к постройке церкви, запланированной на начало весны. Оказалось, что к этому времени было собрано около 3000 руб., и на них в течение зимы намеревались приобрести кирпич. Учёт поступивших средств и материалов производился казначеем Попечительства Николаем Ивановичем Гартьером.
Имеется информация, что по ходатайству синодального обер-прокурора Хозяйственное управление Синода намеревалось выделить на строительство ж.-д. церкви 30000 руб., и в 1901 году Попечительство якобы получило их первую часть — 10000 рублей. Однако имеются большие сомнения, что Синод намеревался финансировать данное строительство: в известных документах Попечительства и клировых ведомостях церкви постоянно указывается, что её постройка осуществлялась только на средства ж.-д. служащих и других доброхотный жертвователей, без упоминания каких-либо казённых сумм. К тому же в это время в городе началось возведение Преображенского храма, и 30000 руб. Синод как раз и выделил на его строительство, перечислив их частями на счёт Комитета по постройке третьей приходской церкви в этом же 1901 году.
Возможно, имелись какие-то намерения оказать помощь и железнодорожникам, но их организационные неурядицы и устав Попечительства, указывающий, что строительство будет вестись только на собственные средства и добровольные пожертвования, явились существенным препятствием для казённого финансирования.
В феврале 1901 года выяснилось, что высылка плана Конотопской церкви затягивается. 23 февраля председатель правления Московско-Киевской ж.-д. на запрос от 22 октября 1900 года сообщил, что «просимые чертежи… на церковь на станции Конотоп… на 650 человек молящихся» будут готовы не ранее, чем через два месяца, и Касаткин ответным письмом выразил благодарность за «обещанный драгоценный дар» и пообещал терпеливо ожидать истечения указанного срока.
В это время стали поступать пожертвования в ответ на разосланные Попечительством письма. 21 февраля из духовной консистории поступил список духовных лиц г. Санкт-Петербурга, пожертвовавших на строительство ж.-д. храма от 15 коп. до 10 руб. (всего собрано 96 руб.), и 28 марта поступило ещё одно письмо с уведомлением, что по почте высланы 100 руб., собранные Московской купеческой управой, и 200 руб. процентов с капитала, завещанного Петром Ивановичем Куманиным «на нужды беднейших церквей».
Кроме финансовых средств, в Попечительство поступали весьма оригинальные заявления о предполагаемых пожертвованиях. Так, 28 февраля такое заявление поступило от главного кондуктора Гомельских бригад Полесских ж.-д. Василия Шеремета, в котором он «порешил в душе своей пожертвовать… на святое дело, если Господь Бог поможет, третью часть выигрыша, могущий пасть на мой билет второго… займа, имеющий быть 1-го или 2-го марта сего года». На нём имеется резолюция Касаткина, что на «означенный… билет 1 марта выигрыша не пало» и данное условие продлено на следующий 1902-й год.
Более конкретное заявление о предмете и способе пожертвования поступило 7 марта от Артура Фёдоровича Циммермана. Он обязался за свой счёт купить и доставить к месту стройки «камень на весь цоколь храма… высотою на два ряда…» и устроить всё не позднее 1 августа 1901 года. Резолюция на заявлении гласит: «По получении плана выслать г. Циммерману обмер церкви».
17 апреля на очередном заседании Совета рассмотрены вопросы о конкретном месте постройки церкви, покраске церковной ограды, строительстве склада под стройматериалы и заслушан финансовый отчёт.
Было решено «строить храм в центре плаца», на покраску ограды выдать подрядчику 100 руб., а сарай построить с отделением для жилья сторожу «из имеющегося на церковном плацу лесного материала». Кроме того, удовлетворено заявление Касаткина об освобождении его от должности председателя Совета по причине перевода в Санкт-Петербург, и 23 мая на эту должность был избран начальник депо Всеволод Васильевич Покровский. Попечительство окончательно решило строить каменный храм с деревянными куполами, но, как выяснилось, к данному времени так и не был получен обещанный план, поэтому пришлось обратиться к председателю строительного Комитета Н. И. Крылову в изыскании способа скорейшего получения необходимых документов.
После документального оформления «плаца» возникла необходимость распланировать вокруг него свободные проходы. Окружающая земля принадлежала служащим и крестьянам, и после переговоров они были готовы уступить свои участки под улицу и переулок за небольшую плату. При этом машинист Брокарев предложил выкупить у него не только землю, но и расположенные на ней дом и хозяйственные постройки. Попечительство посчитало предложение машиниста выгодным и запланировало совершить сделку при первой же удобной возможности, которая, судя по наличию улиц вокруг церкви (План города 1913 года), в последующем действительно состоялось.
19 июня Попечительство получило копию постановления начальника Полесских дорог о разрешении приступить к постройке церкви, но взамен он потребовал предоставить ему подписку, содержащую обязанность в том, что «…как само Попечительство, доколе оно будет существовать, так равно и имеющееся образоваться, по окончании постройки церкви, для дальнейшего заведывания ею Братство, берут на себя ответственность как за самое сооружение вышеупомянутой церкви, так равно и обязанность озаботиться изысканием мер и средств к обеспечению церкви на будущее время, не относя таковых на органы ведомства Путей Сообщения…» (и далее в приложении к главе, л. 1-2). К концу месяца главная бухгалтерия ж.-д. дорог прислало уведомление на имя Покровского, что по состоянию на 1-е июля «в депозит Управления поступило 259 руб. 87 коп. на построение привокзальной церкви». Однако к этому времени Покровский уже выбыл из состава Попечительства и Совет занимался поиском нового председателя, но кто был избран на эту должность — данных не найдено.
Далее выяснилось, что обещанный план Конотопской церкви так и не будет выслан из-за его утраты. Тогда способ выйти из затруднительного положения предложил Феодор Паскевич, предложивший обратиться за проектом к гомельскому гражданскому специалисту Станиславу Шабуневскому. Скорее всего, он и стал автором проекта Никольской церкви, т. к. за выполненные работы железнодорожники выдали ему 350 рублей. Согласование проекта в консистории и Синоде прошло достаточно быстро, и письмом от 20 сентября 1901 года канцелярия архиерея сообщила, что «…разрешено… устроить согласно утверждённому Могилёвским строительным Присутствием плану каменную церковь при cm. Гомель-Полесский во имя Святителя Николая Чудотворца на средства… Попечительства с тем, чтобы к работам было приступлено не прежде, как по получении разрешения от Министерства Путей Сообщения…, и чтобы вновь устрояемая церковь оставалась на правах бесприходной и состояла в ведении Гомельского собора, и чтобы по окончании постройки было донесено Его Преосвященству, с испрошением разрешения об освящении ея».
Наконец, когда все необходимые документы были оформлены и заготовлены строительные материалы, 9 мая 1902 года (ст. ст.) состоялась закладка церковного фундамента, символически приуроченная дню святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских. Освящение нового храма состоялось осенью 1904 года. Вот как описал данное событие его непосредственный участник о. Феодор Жудро в статье, опубликованной 11 ноября в епархиальных ведомостях: «22 октября, в день празднования Казанской иконы Божией Матери, с благословения Его Преосвященства… Стефана, Епископа Могилёвского и Мстиславского, совершилось освящение Гомельской Полесской церкви в честь святителя Николая… Ещё в 1900 году все служащие на… железной дороге, проживающие в г. Гомеле, движимые религиозными побуждениями, положили в сердцах своих воздвигнуть каменный храм во имя святителя Николая. Тогда же учреждено было Попечительство о построении церкви, устав которого и был утверждён Епархиальным Начальством 31-го марта 1900 года. Попечительство имело своею целью всеми законными мерами стремиться к изысканию средств для возможно скорейшего построения церкви и содержания ея. Прошло с тех пор четыре года и церковь освящена.
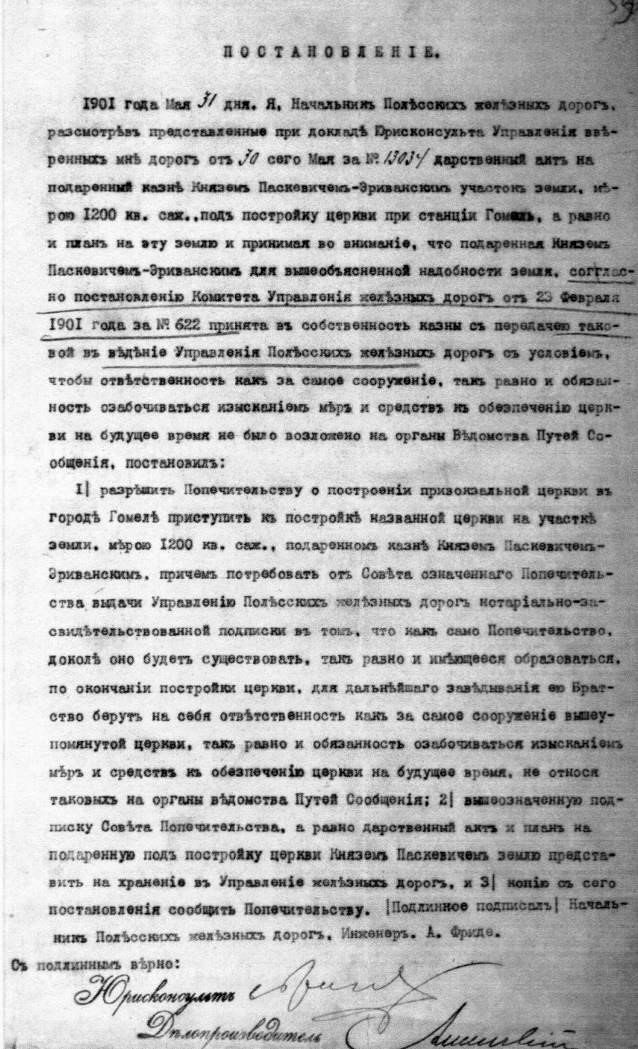
Первым благоприятным обстоятельством для такого успешного исхода дела было то, что покойным князем И.Ф. Паскевичем и его ныне здравствующею супругою пожертвован был участок земли для построения церкви. Этот дар окрылил всех гомельских полесских железнодорожных служащих надеждою, что их намерение может осуществиться. Стали стекаться пожертвования, и с малой суммы, но с твёрдой верой в помощь Божию начата была постройка, которая благополучно и окончена. Преосвященнейший… Стефан, посетив церковь в сентябре месяце сего года, пошёл на встречу ходатайству железнодорожных служащих о скорейшем освящении церкви и открытии при ней прихода. Пока в ней совершение служб поручено причту Гомельской Троицкой церкви, но в самом непродолжительном времени будет возбуждено пред Св. Синодом со стороны Епархиального Начальства ходатайство об открытии при церкви самостоятельного прихода, с назначением жалованья причту от казны. В таком случае в состав прихода войдут, кроме полесских служащих, и жители прилегающего к церкви района. Дай Бог, чтобы это скорее совершилось, так как район этот удалён от городских церквей и весьма нуждается в утешении иметь свой храм. Самое освящение Николаевской церкви совершено местным благочинным протоиереем А. Зыковым, в сослужении законоучителя Гомельских гимназий свящ. Ф. Жудро, соборного свящ. А. Свидерскаго, свящ. Троицкой Гомельской церкви Ф. Страдомского и свящ. Красненской церкви И. Терентиенко при громадном стечении народа.
За литургией в обычное время о. благочинный сказал молящимся поучительное слово, в котором, выразив радость по случаю освящения, развил ту мысль, что храм, удовлетворяя, так сказать, текущим требам прихожан, отселе будет возгреватъ христианский дух молящихся, соединяя их во единый церковный союз, произрастит из себя и истинную благотворительность, и истинное просвещение, и примет всё это под свой мощный покров. После литургии в помещении полесской церковно-приходской школы устроена была для участников торжества трапеза, за которой излилось не мало радостных речей по случаю окончания святого дела. Тут же были составлены приветственные и благодарственные телеграммы Преосвященнейшему Стефану, благословившему освящение храма, Преосвященному Мисаилу, утвердившему устав Попечительства и благословившему закладку храма, отцу Иоанну Кронштатскому — за его жертвы и молитвы, начальнику Полесских ж. д. и многим лицам, принимавшим участие в построении храма, но перешедшим уже на службу в другие места.
В заключение пожелаем, чтобы при вновь освящённом храме утвердился и возсиял истинно православный приход с истинно-братским единодушием и христианскою любовью».
По описанию 1915 года Полесская ж.-д. церковь была «…в одной связи с такою же колокольней…, с тремя деревянными главками — двумя большими и одной малой, крепка, крыша покрыта железом и покрашена зелёной масляной краской, имеет печное отопление. Длина с колокольней -14 саж., наибольшая ширина — 7,5 саж., высота до деревянного купола — 6,5 саж., высота купола — 4 сажени. Престол в ней один — во имя Святителя и Чудотворца Николая». Кроме того, стараниями прихожан на территории храма были построены деревянный дом (улица Никольская) на кирпичном фундаменте для псаломщика и сторожа и сарай для хранения различного инвентаря6. После освящения Никольская церковь первоначально считалась нештатной, и 1 декабря 1904 года на нештатное священническое место при ней был назначен иерей Даниил Федотович Окиншевич. Но уже очень скоро, 15 декабря, указом Синода здесь был открыт отдельный приход, с назначением причту денежного содержания от казны: 600 руб. в год — священнику, 144 руб. — псаломщику, и фактически с этого времени о. Даниил стал первым штатным, настоятелем «при церкви при ж.-д. станции Гомель-Полесский».
Об о. Данииле Окиншевиче известно следующее. Родился 11 декабря 1866 года (по другим сведениям в 1868 году) в селе Бабиничи Горецкого уезда, сын священника, окончил Могилёвскую семинарию и с 1891 года работал учителем в Старо-Шкловской церк.-прих. школе Могилёвского уезда. В 1892-1893 гг. состоял на должности псаломщика при Черейском Воскресенском храме Сенненского уезда. В 1893 году рукоположен в сан священника и назначен настоятелем к Симоновской церкви Чериковского уезда, с 1898 года и до перемещения в Гомель служил при Прилесской церкви Чаусского уезда. 1 января 1905 года назначен законоучителем в мужскую и женскую церк.-прих. школы при Полесских железных дорогах. За усердное священническое служение не раз поощрялся различными церковными наградами. Проживал по ул. Никольской, близ Полесской церкви.
12 марта 1914 года, согласно прошению, о. Окиншевич перемещён к Городецкой церкви Рогачёвского уезда, а из этой церкви на его место перемещён священник Константин Стефанович Леплинский. Известно, что о. Даниил и о. Константин были женаты на родных сёстрах по фамилии Гусаревич.
О дальнейшей судьбе о. Окиншевича известно следующее. Он принял обновленческий раскол, стал бриться и вести себя как мирское лицо, поэтому прихожане постепенно перестали посещать Городецкую церковь. Примерно в 1926 году переехал в г. Рогачёв, где был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности и постановлением особой тройки НКВД БССР от 14 марта 1938 года приговорён к расстрелу, который привели в исполнение 27 апреля. Реабилитирован в 1989 году.
О втором настоятеле Полесской церкви — о. Константине Леплинском — известно следующее. Родился в 1865 году, сын псаломщика, окончил в 1888 году Могилёвскую семинарию и рукоположен в сан священника к Сенненской Покровской церкви Могилёвской губернии. В 1892 году перемещён к Речковской церкви Гомельского уезда, далее с 1 марта 1908-го служил при Городецкой церкви, где с 27 марта, до перемещения в Гомель, стал исполнять должность благочинного 3-го Рогачёвского округа и в 1911 году был утверждён на этой должности.
Как и его предшественник, после назначения к Полесской церкви он был определён законоучителем к двум церк.-прих. школам и в течение трёх лет «за усердно-ревностное исполнение своих обязанностей» неоднократно удостаивался следующих наград: набедренника, наперсного креста, скуфьи и синодальной книги «Библия».
4 января 1905 года первым штатным псаломщиком при Полесской церкви стал Пётр Юденич, перемещённый, согласно прощению, из тюремной Александро-Невской церкви. 7 марта 1911 года он и диакон-псаломщик Руденецкой церкви Гомельского уезда Николай Неверовский, согласно прошению, перемещены один на место другого. Через некоторое время Неверовского перевели на другой приход, а на его место был назначен Иван Тивонов и через некоторое время рукоположен в сан диакона. 1 сентября 1915 года он перемещён на место иподиакона при Минском кафедральном соборе, и 5 сентября очередным полесским псаломщиком назначен Александр Васильевич Куричин, 1887 г. р., которого 13 сентября рукоположили в сан диакона. Кроме того, 17 сентября 1906 года к Николаевской церкви сверх штата был рукоположен в сан диакона учитель Гомельской 2-классной церк.-прих. школы Павел Кондратьевич Аноп, окончивший учительскую семинарию и выдержавший на должность диакона установленные испытания. В марте 1907 года его назначили настоятелем к Рябовичской церкви Быховского уезда и рукоположили в сан иерея.
21 марта 1916 года диакон Куричин назначен на священническое место к Деряжненской церкви Чериковского уезда и 25 марта рукоположен в сан иерея. В этот же день в сан диакона был рукоположен псаломщик Руденецкой церкви Пётр Юденич, и 18 апреля с. г. его, согласно прошению, вновь назначили на псаломщицкую должность при Полесской церкви. В это время прихожан при этой церкви числилось 1016 душ муж. и 1031 душа жен. пола.
Примерно в середине 1919 года в Никольский храм поступило большое количество различных церковных предметов (всего 55 наименований) из закрытых гимназической, тюремной и духовно-училищной церквей города, но кто составлял перечень этих предметов и кто их принимал — данных не показано.
22 июля (ст. ст.) 1917 года общее собрание верующих Полесской церкви избрало из своей среды двенадцать хорошо известных и уважаемых прихожан в члены постоянно действующего приходского совета, который заменил существовавшее при церкви православное Братство. Кроме избранных в состав совета вошли священник, диакон и церковный староста.
Совет в своей деятельности имел достаточно широкие полномочия и оперативно реагировал на разные ситуации в жизни прихода, занимался сбором финансовых средств и их распределением на содержание кладбища, школ, училища, оказывал благотворительную помощь, вникал во многие другие вопросы. В августе 1918 года состоялся первый годовой отчёт совета, при этом во вступительной части доклада особо отмечено, что началась его деятельность при весьма неблагоприятных условиях, когда «…враги православия не дремали и чинили различные препятствия…, из-за чего даже пришлось перенести довольно чувствительные гонения…».
23 июля 1917 года приходское собрание, состоявшееся в храме, постановило направить на общегородское собрание выборщиков от духовенства и мирян для избрания депутатов на епархиальный съезд и предстоящий Собор, планируемый начаться в Москве 15 августа с. г. (ст. ст.). От духовенства в состав выборщиков вошли священник Константин Леплинский, диакон Пётр Юденич и находившийся при церкви священник Виленской епархии Константин Караскевич, от мирян — Иван Петрович Щеглов (председатель Совета), Фёдор Фёдорович Евстафьев, Аполлинарий Захарович Гумбарев (секретарь Совета) и другие.
Из данного документа следует, что в приходе сверхштата находился священник Константин Лаврентьевич Караскевич, эвакуированный, скорее всего, из мест, занятых неприятелем. Известно, что он родился 29 декабря 1879 года, уроженец села Пустынка Сенненского уезда, окончил в 1904 году Могилёвскую семинарию и работал четыре месяца школьным учителем. В сан священника рукоположен в 1905 году и назначен к Прилесской церкви Чаусского уезда, из которой 1 сентября 1907-го перемещён, согласно прошению, к Светлянской церкви Свенуянского уезда Литовской епархии. Когда именно священник прибыл в Гомель — данных не найдено. Немногим позднее о. Константин был определён к Борщёвской Николаевской церкви нынешнего Речицкого района, но в 1940-х гг. ему вновь будет суждено оказаться при Полесской церкви, но на это раз на должности настоятеля.
27 сентября 1917 года в приходской совет обратился комиссар станции Гомель Полесских ж.-д. Он сообщил, что 22 августа на «базарчике возле вокзала» были найдены 10 руб. 81 коп., за которыми в течение месяца, после неоднократных опубликований о находке, никто не явился. Поэтому комиссар постановил отдать 1/3 часть от найденного гражданке Анастасии Кузьмицкой, заявившей о находке, и 2/3 части (7 руб. 20 коп.) передать на нужды прихода. О получении денег он просил прислать ему приходную квитанцию.
В сентябре этого же года регент церкви Г. Корнеев подал заявление в приходской Совет следующего содержания: «Принимая во внимание, что оные певцы из состава хора перешли в состав хора других церквей на лучшие оклады, другие крайне неаккуратно посещают как спевки, так и церковные службы из-за весьма скудного содержания (40 руб. в месяц на всех), считаю невозможным с оставшимися хористами исполнять обязанности регента, а посему слагаю с себя таковые». Прошение было удовлетворено, но вопрос материального стимулирования оставшихся хористов не обсуждался.
В марте 1918 года в совет обратился мирянин Лаврентий Анатольевич Кладь: «Г-н Щеглов! Обращаюсь к Вам… с просьбой… о принятии меня в Свято-Никольскую церковь в качестве регента. Пробыв три года на фронте и затем уволенный в отпуск по болезни, я до настоящего времени не имею занятий. Причём заявляю, что я учился в Варшавской консерватории четыре года и как многолетний практик знаю регентское дело в совершенстве». Скорее всего, решение совета по данному заявлению было положительным, но Кладь в другом письме поставил условие, что до Пасхи остаётся мало времени, и с хором он не успеет спеться, поэтому свои услуги может предоставить только после Пасхи, но без всяких пробных прослушиваний, которые могут создать разные недоразумения. Как в дальнейшем решился вопрос с Кладем — сведений не имеется, но по данным на февраль 1919 года регентом хора продолжал быть Корнеев.
В январе 1918 года приходской совет в главный исполнительный Комитет Полесских ж.-д. предоставил выписку из очередного протокола заседания, в которой излагалась просьба «…сделать зависящее от него (Комитета) постановление о приёме в ведение Полесских ж.-д. каменной церкви во имя Св. Николая, построенной исключительно на пожертвования мастеровых, служащих и рабочих cт. Гомель Полесс. ж.-д., с тем, что церковь эта будет предоставлена для совершения в ней богослужений и других религиозных обрядностей только мастеровым… Полесс. ж.-д., а также деревянный дом при церкви». В случае положительного решения данного вопроса возникало обязательство железных дорог возмещать расходы по ремонту, отоплению, освещению здания церкви и дома, а также по содержанию причта — священника, диакона, псаломщика и церковного сторожа. Совет же брал на себя обязательство возобновлять церковную утварь и облачение и совершать украшение храма из сумм от продажи свечей и пожертвований прихожан, а остаток из этих сумм передавать Полесским железным дорогам. При этом к выписке прилагались прошения некоторых профессиональных ж.-д. союзов, в которых поддерживалась возможность передачи церкви в ведение ж.-д. дорог. Но в итоге, несмотря на дальнейшие напоминания, такой передачи не состоялось, и в июне месяце безрезультатная переписка по этому поводу была прекращена.
Содержать же причт своей церкви, ввиду прекращения выдачи государственных окладов всему духовенству страны, с 1 марта 1918 года пришлось приходскому совету, но какие были установлены оклады причту — данных не имеется.
7 (20) мая приходской совет объявил, что в честь престольного праздника 9 (22 мая) после литургии состоится крестный ход по приходу: процессия с церкви отправится в мастерские Полесских дорог (токарный цех), где будет отслужен молебен Николаю Чудотворцу, потом пройдёт вдоль линии к Косому переулку, с остановкой для молебна, далее по Косому переулку к углу Орловской улицы, с остановкой для молебна, по Орловской улице к Балашевской, с остановкой для молебна, и по Балашевской улице шествие направиться к церкви. Приглашались все прихожане принять участие в этом торжественном мероприятии.
В 1918 году ещё продолжались занятия в городской женской Преображенской гимназии. Совет решил взять на своё попечение девочек из беднейших семей железнодорожников для обучения в гимназии, но из 70-ти поступивших в совет прошений было удовлетворено только 36.
Обращались за материальной помощью в совет не только прихожане. В июне 1918 года на имя Щеглова поступило прошение от Анны Васильевны Лучиц, беженки из Минской губернии, «ютившейся в Гомеле в землянке при Японских баррикадах». Она сообщила: «Впредь до вступления немцев в Гомель, родители мои уехали в Тамбовскую губ., а я, будучи калекой, не успела вместе с ними уехать и осталась здесь на произвол судьбы и переношу весьма тяжкую нужду в одиночестве. Желая уехать к своим родителям, я представляю при сем свидетельство о моей болезни, и покорнейше… прошу Вас исходатайствовать пред Советом о выдаче мне возможного денежного пособия для вышеозначенной цели». Совет нашёл возможность выдать просительнице в качестве пособия 15 рублей, и к делу была приобщена её расписка от 14 июня 1918 года.
Аналогичное прошение в этом же месяце поступило от беженки из Минской губернии Фёклы Григорьевны Хоруто, также «ютившейся в землянке при Японских баррикадах, около депо». Она сообщила, что около трёх лет страдает ревматизмом и другими тяжёлыми заболеваниями, к труду не способна, не имеет ни средств, ни одежды, ни обуви, желает вернуться к родным, в Гомеле почти умирает с голода, поэтому просит выдать ей возможное денежное пособие. Прошение за неграмотную просительницу написала вышеуказанная Лучиц. Совет также нашёл возможность выдать ей 15 рублей.
Одновременно ещё одно заявление из «землянки» поступило от беженки из Холмской губернии Екатерины Даниловны Бзумовской, от роду 90 лет, неграмотной, в котором она просила выдать ей по бедности денежное пособие на пропитание. Однако обследованием было установлено, что Бзумовская находится на полном иждивении у своей дочери, муж которой работает стрелочником на станции Гомель и имеет продовольственное и денежное содержание, поэтому в выдаче пособия ей было отказано.
Было отказано и беженке из Гродненской губернии Антонине Григорьевне Коринской, ютившейся в этой же «землянке». Она сообщала, что после перенесённой операции, которую ей сделали в Одессе, она совершенно больна, к труду неспособна и терпит большую нужду, со стороны не имеет никакой помощи и голодает. Но при обследовании выяснилось, что просительница ввела всех в заблуждение: фактически за ней ухаживают её мать и брат, который зарабатывает по 8-10 руб. в день, мать также подрабатывает стиркой белья, а самой Коринской перед Пасхой было выдано пособие в размере 20 руб., поэтому в выдаче второго пособия, на основании вышеуказанного, совет воздержался, хотя сам Щеглов намеревался выдать ей 10 рублей.
В сентябре 1918 года за помощью в совет обратился ученик токаря ж.-д. мастерских Илья Терлецкий, круглый сирота, прихожанин церкви. При нём находилось ещё шесть едоков-родственников, поэтому просил включить его за счёт совета в число пайщиков кооператива при городском приходском Союзе и выдать ему продовольственную книжку. В прошении было отказано, потому что проситель уже получает продукты от ж.-д. кооператива, хотя, с его слов, этих продуктов на всех сирот не хватало.
В октябре совет нашёл возможность удовлетворить прошение Варвары Мыщик (у неё семья из 8-ми человек) и вышел с ходатайством в городской кооператив о включении её в число бесплатных пайщиков с выдачей продуктовой книжки.
Летом этого года из кассы храма были похищены церковные деньги. Расследование установило, что хищение совершили четверо несовершеннолетних подростков, и их родители дали письменные обязательства возместить ущерб в равных долях, по 120 руб. каждый. Первый полный взнос один из родителей совершил 23 июля, а остальные трое вносили частями, по 50-70 руб., в течение двух месяцев. Ввиду достигнутого мирового соглашения, совет обратился в суд с ходатайством не привлекать к ответственности виновных лиц, которое было удовлетворено.
9 августа 1918 года совет, в соответствии с протоколом своего заседания №23, по просьбе Союза городских приходов выделил 189 руб. на ремонт здания Преображенской гимназии, а также возместил часть расходов в размере 5 руб. 35 коп. за посланные телеграммы гетману Скоропадскому и 10 руб. за приобретённые канцелярские предметы. Все деньги под расписку намеревался получить секретарь Союза Е. К. Людковский, однако они частями были выданы другим лицам.
В августа этого года, перед началом учебных занятий, священник Константин Леплинский и диакон Пётр Бутомо обратились к начальнику Полесских железных дорог с просьбой разрешить им преподавать, как и прежде, Закон Божий в ж.-д. школах и оставить священника законоучителем в железнодорожном училище, т. к. в данных учебных заведениях обучаются дети железнодорожников, родители которых являются прихожанами Полесской церкви. Данное прошение поддержал приходской совет, и оно было удовлетворено.
16 сентября (нов. ст.) председатель приходского совета Щеглов обратился к начальнику 10-го участка Службы Пути с ходатайством отпустить строительные материалы для постройки дома при церкви для религиозно-нравственных и просветительских целей приходской общины. Требовались доски, брёвна, старые телеграфные столбы, пакля и гвозди разного размера, при этом выражалось пожелание, чтобы их со склада отпустили по заготовительным ценам, а не рыночным. Требуемая сумма была внесена в кассу ст. Гомель-Полесский церковным старостой Львом Ивановичем Раценко, инженером железнодорожных путей сообщения.
9 октября на очередном заседании совета обсуждались вопросы содержания Полесского кладбища. Принято решение об увеличении в четыре раза платы за погребение неприхожан церкви, для прихожан плата оставлена в прежнем размере, но при этом была установлена плата в размере 100 руб. за место на кладбищах при ж.-д. больницах, которое ранее для служащих предоставлялось бесплатно. Также было направлено ходатайство начальнику 10-го участка Службы Пути о постройке на кладбище деревянной сторожки из старого материала размером 6×8 аршин, при ней сарайчика размером 3×4 аршина, и двух деревянных мостиков для прохода через канавы: одного со стороны улицы Румянцевской, другого — со стороны Крестьянского кладбища. Так как «заселение» кладбища в данное время стало происходить достаточно быстро, и вскоре из-за его переполненности может последовать запрет властей на дальнейшие погребения, то совет озаботился приобретением нового участка для кладбища. Но цены на землю являлись высокими, а совет не желал брать платы с железной дороги за погребение умерших в больницах, поэтому начальнику 10-го участка предлагалось возвести вышеуказанные строения безмездно.
Отдельной группой на церковном кладбище были захоронены три германских военных чина, погребение которых произошло бесплатно. Пользуясь тем, что в скором времени предстоял вывод оккупационных войск, приходской совет в ноябре и декабре с. г. обратился в Совет солдатских депутатов германских войск в Гомеле с просьбой внести в кассу приходской общины 450 руб. за занятые места, и при этом гарантировал, что в последующем, после поступлении оплаты, погребённые не будут вынесены за пределы кладбища. Переговоры с военными осуществлял секретарь приходского совета А.З. Гундарев.
Обсуждение наиболее важных аспектов деятельности прихода происходило на совместных заседаниях приходского совета и профессиональных союзов железнодорожных мастеровых, рабочих и служащих. Одно из таких заседаний произошло 28 января 1919 года в здании женской школы при ст. Гомель-Хозяйственный. На повестку дня вынесли два основных вопроса: 1) о передаче метрических книг из церкви в подотдел гражданского состояния; 2) о преподавании Закона Божия в ж.-д. школах, а также учебных заведения г. Гомеля и Новой Белицы.
Обсуждение по первому вопросу (о передаче метрических книг из церкви в подотдел гражданского состояния) произошло достаточно быстро, также и по второму вопросу (о преподавании Закона Божия в ж.-д. школах, а также учебных заведения г. Гомеля и Новой Белицы) единогласно было принято постановление о сохранении штатных должностей законоучителя для преподавания Закона Божия в школах, в которых должны читаться положенные молитвы ввиду того, что содержание их финансируется не из государственных средств, а самими железнодорожниками исключительно православного вероисповедания. Далее были обсуждены вопросы содержания священнослужителей в приходе. При этом со стороны представителей профессиональных союзов были высказаны некоторые претензии: к Николаевской церкви прикомандирован священник Сергей Канарский, по которому сложилось впечатление, что он уклоняется от исполнения своих обязанностей, т. к. всегда стоит на левом клиросе и исполняет роль певчего. Поэтому требуется, чтобы о. Канарский не уклонялся от своих прямых обязанностей и исполнял требы и Таинства по седмицам и желанию прихожан, наравне с настоятелем о. Леплинским.
Настоятель Леплинский пояснил, что с 26 декабря 1918 года указом архиепископа Константина к ним временно прикомандирован священник Азаричской церкви Гомельского уезда Канарский, без права получения доходов. Также здесь находятся и другие прикомандированные -священники К. Караскевич и А. Бедрицкий и диакон Л. Бутомо, и все они без права получения доходов от Никольской церкви. Поэтому профессиональным союзам следует изыскать возможность по оказанию им материальной помощи, а также определиться с ассигнованием на содержание штатного причта в текущем году.
В заключение рассмотрели вопрос о посылке делегатов для переговоров с городскими представителями Советской власти по поводу не выселения архиепископа Константина из занимаемой им квартиры в духовном училище. Переговоры состоялись, и, как известно, они оказались безрезультатными (приложение к главе, л. 9-10).
Также неудачей заверши-лось желание железнодорожников сохранить в своих школах преподавание Закона Божия. 16 февраля 1919 года коллегия народных комиссаров отклонила пункт № 2 постановления объединительного собрания ввиду отделения церкви от государства и рекомендовала впредь никому не принимать решений, идущих в разрез с политикой рабоче-крестьянского государства.
5 февраля 1919 года при Полесской церкви постановлением приходского совета был открыт второй причт. По избранию прихожан 2-м священником стал Сергей Канарский, 2-м псаломщиком — диакон Леонид Бутомо. Данное решение утвердил находившийся в Гомеле архиепископ Константин.
О диаконе Л. Бутомо никаких установочных данных не найдено, и его дальнейшая судьба также неизвестна. Также отсутствуют биографические сведения о. С. Канарского. Известно лишь, что ранее ему довелось кратковременно быть диаконом при Петро-Павловском соборе и в сан священника рукоположен не ранее 1917 года.
12 февраля с. г. о. Канарский и о. Бутомо обратились в профессиональный союз работников на ст. Гомель-Хозяйственный с просьбой предоставить им квартиры. Ответным письмом союз порекомендовал приходскому совету временно разместить просителей в квартире, занимаемой о. Леплинским, с предоставлением общей комнаты для совершения треб. Как в дальнейшем решился данный квартирный вопрос — сведений не имеется.
В скором времени между священниками Леплинским и Канарским произошёл конфликт, связанный с совершением христианских треб — отпеванием покойника. 4 марта с. г. в церкви происходило отпевание умершего рабочего, и что именно в это время произошло между священниками — неизвестно. Бывшие на панихиде родственники-железнодорожники через свой профессиональный союз подали архиепископу Константину прошение о немедленном удалении о. Леплинского из прихода и заменой его о. Караскевичем. Разбирательство по жалобе производили городской благочинный священник Чудович и приходской Совет, и в итоге приходской совет принял постановление, что поступившее заявление об устранении настоятеля не может считаться заявлением всех прихожан, так как прихожанами храма состоят ещё 15 профессиональных союзов и лица, не состоящие ни в каких союзах. В итоге, о. Леплинский продолжал оставаться при церкви на прежнем месте.
Далее известно, что в мае 1919 года приходской совет созвал общее собрание для выборов 2-го священника на вакантное место. В причт церкви в это время входили 1-й священник Леплинский и диаконы Юденич и Бутомо, поэтому очевидно, что 2-й священник избирался на место о. Канарского3, который, скорее всего, в мае 1919 года перевёлся на какой-то другой приход. Напомним, что в последующем он стал активным проводником обновленческого раскола в Гомеле и получил от обновленцев посвящение в митрофорного протоиерея. Скорее всего, с 1923 года приходское служение им не совершалось, так как был назначен уполномоченным по Гомельской епархии от Московского управления «Живой Церкви» и занимался организационно-распорядительной деятельностью. Новоявленный протоиерей характеризовался человеком без моральных устоев и образовательного ценза, своим грубым обращением заставил многих прихожан разочароваться в обновленческом движении, при этом не считался с мнением приходских собраний и благочинных советов, добиваясь с помощью угроз выгодных ему решений. Сведений о дальнейшей судьбе не найдено.
Выборы 2-го священника состоялись, но данных, кто был избран, не найдено. Сразу же последовали возражения со стороны некоторых профессиональных союзов, что избрание состоялось неправильно. В частности, в приходской совет поступил протокол общего собрания мастеровых, служащих и рабочих депо при ст. Го-мель-Хозяйственный от 26 мая 1919 года, в котором от лица 3000 прихожан требовалось, чтобы 2-м священником при церкви был утверждён протоиерей Николай Андреевич Зефиров, бывший ректор Могилёвской духовной семинарии. Однако есть основания считать, что назначение 2-го священника к Никольской церкви так и не состоялось из-за отсутствия средств на его содержание.
В марте 1919 года приходской совет обратился ко всем профессиональным союзам с просьбой избрать своих полномочных представителей и создать смешанную комиссию по решению насущных дел прихода. Также совет просил пояснить, будут ли союзы и далее состоять в приходе Полесской церкви, и если будут, то какое количество их членов собираются посещать церковь. В скором времени представители от союзов были назначены (заседание комиссии произошло 14 марта), а из полученных ответов выяснилось, что число полесских прихожан составляет примерно 6000 душ. Совет предложил, чтобы каждый прихожанин, независимо от пола и возраста, на содержание причта и церкви в течение года вносил по 1 рублю, и принял постановление возобновить ходатайство о передаче церкви на баланс управления Полесских железных дорог и принятии церковного причта и сторожа в число железнодорожных служащих (приложение к главе, л. 11-13).
Далее выяснилось, что не все союзы внесли установленные взносы на покрытие церковных расходов, а революционный Комитет при Полесских ж.-д., в конечном итоге, отказался принимать церковь на свой баланс, порекомендовав нужные средства изыскивать только со своих прихожан, а не с государственных или общественных организаций.
В этом же 1919 году вновь заявили о себе певчие хора. Из-за отсутствия регента управление хором осуществлял диакон Леонид Бутомо, но во время совершения им богослужений у него отсутствовала возможность руководства певчими, поэтому они просили разрешения самостоятельно произвести выборы своего постоянного руководителя. По поводу руководства певчими 21 июня в совет с заявлением обратился певчий Пётр Дементьевич Куценотскин, который сообщил, что «…имею желание поднять на должную высоту хор певчих и могу им руководить», а также ещё одно аналогичное заявление поступило и от певчего Михаила Онуфриева. При этом оба певчих подали совместное заявление старосте церкви о том, чтобы о. Леониду не выплачивалось жалование регента ввиду неисполнения последним своих обязанностей, потому что управление хором фактически поочерёдно совершалась ими.
Сразу же нашлись как сторонники, так и противники претендентов, и по этому поводу в совет поступили различные коллективные ходатайства и жалобы, из-за которых Куценотскин и Онуфриев решили отказаться от своих притязаний.
Вскоре из прихода убыл священник Константин Леплинский (точной даты убытия не имеется). Известно, что священническое служение он продолжил при Уваровичской церкви нынешнего Буда-Кошелёвского района, где находился примерно до середины 1930 года. О его дальнейшей судьбе сведений не имеется.
Очередным настоятелем к Полесской церкви был назначен священник Пётр Рылло. Обстоятельства своего назначения священник изложил в своих дневниковых записях, которые сохранились до наших дней.
Напомним, что ранее он был приходским священником в посаде Кржешов Люблинской губернии, во время боёв 1914 года на русско-австрийской границе не раз спасал мирных жителей от грабежей и насилия как со стороны солдат противника, так и собственной армии, и при этом ему также довелось стать жертвой солдата-мародёра, который похитил у него карманные часы. В начале войны архиереи западных епархий запретили священникам оставлять свои приходы, и многие из них, выполняя это распоряжение, попали в плен к австрийцам и немцам, перенесли издевательства и некоторые даже были убиты.
Отец Пётр избежал такой участи, но другие священники, побывшие в плену, рассказали ему о тех ужасных условиях, которые им довелось перенести на вражеской территории. Осенью 1915 года в Могилёве он встретился со священником Николаем Чаловским, и по результатам состоявшегося разговора в дневник было записано следующее: «…Вид его (Чаповского) был ужасен. Еле живой, бледный, измученный, с впалыми глазами, одетый буквально в рубище — в какой-то рваный пиджачок, рваные брюки, ботинки, такую же изорванную шапчонку — он производил впечатление старца-нищего.
Рассказ его о переживаниях в плену заставил меня плакать, плакал и несчастный старик. После долгих странствий, оскорблений и оплеваний привезли его в Нижнюю Австрию в какое-то имение, где поселили с другими пленниками в каменном сарае, не то конюшне, с цементным полом… В этом помещении печей не было, приспособлений для спанья также никаких. Помещение согревалось нашим дыханием. На пол бросили нам солому, которая не менялась целую зиму, до Пасхи. Солома эта превратилась в труху, которая буквально ходуном ходила от множества насекомых. Кормили нас всякими отбросами. От скученности, холода и недоедания появился тиф, который многих унёс в могилу…»
С болью описывает священник и моральное разложение армии под воздействием революционной пропаганды, чем не раз пользовались австрийцы в своих целях. Во время «братания» на Пасху 1916 года, помимо распространения прокламаций с призывом сдаваться в плен, неприятель собирал информацию о русских позициях и наносил потом точечные артиллерийские удары, которые приводили к большим потерям в русских полках.
В тоже время о. Пётр отмечал, что смертельные обстоятельства войны обостряли у многих людей религиозное чувство, которое, с одной стороны, нередко соседствовало с ожесточением и злобой, толкающей на святотатство, как, например, надругательство «над Святым Крестом, который австрийцы (как бы христиане!) поместили в нужник», и, с другой стороны, с проявлением такой тёплой молитвы, которой он никогда и нигде больше не чувствовал, как во «время праздника Покрова в 1914 года в Богородицком храме Кржешова под артобстрелом австрийцев…, или во время Литургии на открытом Антиминсе в лесу в окружении своих прихожан, спасавшихся от бомбежки…».
Когда в 1915 году Холмская консистория эвакуировалась в Минск, о. Пётр после очередного ходатайства был отпущен в Могилёв для поступления в состав полкового духовенства. В октябре этого года он убыл в 14-й стрелковый полк 4-й дивизии 6-го армейского корпуса генерала В.И. Гурко (Юго-Западный фронт) и испытал все тяготы окопной войны: отпевал, совершал молебны под обстрелом вражеской артиллерии, подносил патроны, помогал в лазарете врачам и санитарам, а во время поражений русской армии и отступлений с горечью отмечал, что не находил сочувствия и элементарной вежливости со стороны духовенства других епархий, которое «выносило резолюции не принимать священников-беженцев и военных в свои епархии», или «сытый голодного не разумеет». Хорошо ещё, что архипастыри не особо обращали внимание на эти «христианские» постановления своих подопечных. Тем не менее, пробыв на фронте с осени 1915 года по январь 1918-го, претерпев опасности и лишения, о. Пётр считал этот период «счастливейшим временем своей жизни».
В начале 1918 года он приехал в город Лубны Полтавской губернии, где находилась его семья. Устроиться ему на службу не удалось ни по месту пребывания, ни в других крупных городах Украины, а впоследствии вместе с детьми довелось тяжело переболеть «испанкой». Но чем он занимался по 1923 год — данных не показал. Далее о. Пётр пишет: «…В начале 1923 года я получил письмо от мужа моей сестры (Веры) Михаила Борисовича (фамилия не указана) — человека, которого я глубоко уважал и любил. В своём письме М. Б. писал, что хотел бы увидеть меня и чтобы я устроился где-либо поближе к родным. Я ответил, что устраиваться где-либо в деревне не стоит, но если бы в городе нашёлся свободный приход, то я с удовольствием переехал бы туда из-за детей. Через некоторое время М. Б. сообщил, что в Гомеле имеется свободный Полесский приход и предложил мне приехать сюда немедленно. Я отправился в Гомель и попал на выборы настоятеля, подал своё заявление приходскому совету и епархиальному управлению и был избран настоятелем церкви из числа 9 кандидатов… Скажу только, что дело о моём избрании докатилось до Москвы, до Синода, и последним я был утверждён настоятелем, а также на меня были возложены обязанности члена епархиального Управления и заместителя епархиального Уполномоченного (обновленцы)… В феврале я переехал с сыном и дочерью в Гомель, временно поселился у сестры, вступил в отправление своих служебных обязанностей…, а к Пасхе ко мне перебралась вся семья… Наконец, поселились мы в сторожке возле церкви…».
Как видно из предыдущих записей, о. Пётр ранее не раз посещал Гомель, был в гостях у своей сестры и занимался какими-то служебными делами, но при этом вряд ли он был известен горожанам как пастырь и священник. Тем не менее, приняв участие в выборах, ему за короткий срок удалось убедить своих будущих прихожан, что будет их достойным настоятелем, одержав победу над местными представителями духовенства, часть которых поддерживалась и городским благочинием, и епархиальным управлением. Своей победой священник тут же нажил себе врагов и завистников, и ему «неприятно было принимать на себя обязанности члена Управления и зам. Уполномоченного, тем более… приходилось вращаться среди лиц, заведомо враждебно настроенных против меня».
Однако не только взаимоотношения с местным честолюбивым духовенством стали омрачать пастырскую деятельность о. Петра. Город не понравился его супруге, и она в категорической форме стала требовать переезда в другие города, при этом обвиняя мужа в разврате, разложении семьи и других аморальных проступках, при этом написала на него массу жалоб и доносов. На фоне многочисленных семейных скандалов ему приходилось проявлять удивительное смирение, а свою горечь и обиду доверять только дневниковым записям, чтобы в будущем его дети смогли правильно оценить сложившуюся ситуацию во взаимоотношениях между их отцом и матерью. При этом священник признавал за собой ошибки, которые он допустил в молодости, когда познакомился со своей будущей супругой и не раз имел возможность увидеть её скверный характер, но по собственному произволению решился создать с ней семью.
Уделяя внимание семейным взаимоотношениям, священник написал, что его отец долгое время состоял на диаконской должности, потом выдержал установленный экзамен и был назначен священником в село Шупени Могилёвского уезда. Через некоторое время его перевели в село Тубышки этого же уезда, и в этом приходе был хутор, принадлежавший помещику Подобеду. Одна из дочерей помещика вышла замуж за учителя Ф. А. Пушкаревича и уехала с ним в Варшаву, где Пушкаревич стал полицейским чиновником. Дочь чиновника Вера часто навещала дедовский хутор, и здесь молодой Пётр, будучи с отцом в гостях на хуторе, познакомился с ней, и с тех пор привязался к своей будущей супруге. Замечая за девушкой скверность характера, заключающийся в неуёмной ревности и скандальности, он был искренне влюблён в неё и не придавал значения этим недостаткам, которые со временем ещё более обострились и отравили ему всю дальнейшую жизнь.
Особенно привязался Пётр к девушке в 1905 году, когда из-за забастовки в семинарии ему довелось с октября с. г. по январь 1906-го быть с ней на хуторе. В 1908 году выпускник семинарии сделал ей предложение, посчитав, что супружеские узы исправят жену, однако в последующем он горько осознал ошибочность своих представлений. Когда о. Пётр отказался уехать из Гомеля, помимо жалоб Вера подала на него в суд, на заседание которого пришло множество народа, т. к. всех интересовал исход такого интересного дела. И хотя многие, познакомившись ближе со священнической женой, возмутились её поведением, но в зале были лжесвидетели и сторонники считать о. Петра семейным извергом.
Поводом для судебного разбирательства стал побег из семьи несовершеннолетней дочери Марии (о. Пётр называл её Малинкой).
Под влиянием матери несовершеннолетняя дочь о. Петра, которую он ласково называл Малинка, тайно уехала на Украину, но была разыскана отцом и возвращена домой. Тут же очередной семейный скандал, спровоцированный женой, приводит к тому, что последняя, порвав на себе одежду и оцарапав лицо, выбежала на улицу с криком, что её избил и преследует муж, а потом собственные царапины освидетельствовала у врача. Суд вызвал о. Петра на заседание в качестве обвиняемого, и он вынужден был нанять защитника. В качестве доказательства избиения Вера представила медицинскую справку и обвинила священника, что он избивал не только её, но и детей, поэтому они убегают из дома, и на основании этого потребовала лишить его отцовских прав и удерживать алименты. Заслушав стороны, свидетелей и детей, суд принял решение: дочь Марию и сына Владимира оставить отцу, а дочь Нину, сыновей Петра, Александра и Гурия — матери, с уплатой от отца 18 руб. алиментов в месяц на их содержание. Суд высшей инстанции также утвердил это решение.
Далее о. Пётр пишет: «…К этому времени мои прихожане успели убедиться кто прав и кто виноват, и симпатии прихода были на моей стороне. Мамаша же не унимается.
Видя, что её происки не приводят к желанному результату, что прихожане не гонят меня, она строчит на меня донос архиепископу Варлааму в Псков, заведовавшему в то время Гомельской епархией, и тот 18/31 июля 1924 года пишет на имя церковного совета следующее: “Для умиротворения церковной жизни в Полесском приходе нахожу необходимым предложить приходу… при депутате — прот. П. Гинтовте или прот. С. Романкевиче — свободно и сознательно избрать себе настоятеля храма по сердцу, а протоиерея Петра Рылло готов принять в церковное общение, если он не будет оставаться на Полесском приходе и в случае избрания другого настоятеля охотно согласиться перейти на другой приход, где и загладит доброй пастырской деятельностью всё бывшее”.
Пользуясь предложением Владыки, я никакой агитации среди прихожан не веду и, наоборот, стараюсь избегать с ними всяческих разговоров. Жду спокойно общего собрания и исполняю пастырские обязанности. В день выборов (воскресный) я отслужил литургию…, отправился домой… и жду своей участи… Как потом мне передали, собрание было бурным. Невзирая на всевозможные ухищрения Гинтовта, желавшего сковырнуть меня и выставлявшего собственную кандидатуру в настоятели, миссия его успеха не имела, общее собрание вновь избрало меня настоятелем. Толпа женщин направилась к моему дому, многие со слезами на глазах приветствовали меня и пригласили в церковь, где я отслужил благодарственный молебен и поблагодарил своих прихожан за сердечное отношение ко мне… Мамаша в очередной раз устраивает мне скандал…, я спасаюсь у сестры…, а потом узнаю, что моя “дражайшая” половина укатила… Жалко было детей, уехавших с ней, но в тоже время радовался за себя и оставшихся со мной детей…, что отдохнём душой…».
Однако через несколько месяцев Вера вернулась, и в доме протоиерея вновь возобновились скандалы. Некоторые потом упрекали о. Петра, что впустил в свой дом врага, но, как он отвечал, поступить иначе не мог. Прибывший в Гомель епископ Тихон (Шарапов) не стал разбираться в сути конфликта супругов и только на основании личного предубеждения запретил священника в служении. Но священническую честь он вновь восстановил благодаря своим прихожанам, и прослужить ему довелось при Полесской церкви до её закрытия.
Официально примкнув к обновленцам, Пётр Рылло себя идейным их сторонником не считал. Борьба же за возвращение гомельских приходов в патриаршую Церковь нередко сталкивалась с личными амбициями некоторых личностей. Вот как описывает он события 1924 года, непосредственно коснувшиеся его лично и прихода в целом: «…Гомельское духовенство, убедившись с одной стороны, что обновленчество пошло по сектантскому пути, с другой, будучи побуждаемо верующими, решило оставить обновленчество и воссоединиться с Патриархом Тихоном. Кто был инициатором воссоединения — не знаю. Может быть о. А. Зыков, который был идеологом обновленчества на Гомельщине и вообще в Могилёвщине, может кто другой, но факт, что сдвиг был сделан. Среди духовенства разговоры о воссоединении были, но от меня это держалось в тайне. Некоторые из моих прихожан не раз приходили ко мне на дом на первых порах моего пребывания в Гомеле, уговаривали меня оставить обновленчество, отправиться к Патриарху Тихону и воссоединиться, на что предлагали и деньги, но я всегда говорил, что не я вводил обновленчество, не я первым буду и воссоединяться. Пусть другие сделают это, а за мной остановки не будет. Избран делегат от духовенства — Стефан Романкевич, который уехал в Москву в сопровождении кого-то из мирян. Только через некоторое время я узнаю от своих прихожан, что воссоединение гомельских приходов во главе со своим духовенством уже свершившийся факт, и что прот. Романкевич назначен уполномоченным по воссоединению. Мои прихожане настаивают и на моём воссоединении. Поведение духовенства, ни словом не обмолвившегося со мною, меня возмутило. Через две недели или несколько позже подаю Романкевичу своё заявление о принятии меня и моего прихода в молитвенно-каноническое общение. Романкевич находит, что для меня недостаточно одного заявления, ему хочется моего унижения. Заявляю ему, что я… обойдусь и без его посредства, но он достиг своего. Приехал Тихон… и начал свою дикую деятельность по воссоединению, принёсшую много горя и ему самому, и духовенству, и общему делу, так как православное общество разделилось на два лагеря: истинно-православных левашёвцев и иже с ними, и потерявшее благодать остальное духовенство. Истинно-православные… не посещают наших церквей, не обращаются к нам за требоисправлениями и даже дерзают совершать сами отпевание покойников, как это делает милъчанская баба Дунька-Пушиха…».
Очевидно, что о. Пётр по своему внутреннему убеждению неоднозначно оценивал действия гомельского епископа Тихона (Шарапова) и городского духовенства, а также имел свой особый взгляд на те, или иные события. Однако его восприятие ценно тем, что оно совершено непосредственным очевидцем того непростого времени и показывает, как обновленчество и борьба с ним принесли в жизнь верующих различные разделения: кто-то стал «истинно-православным», кто-то «патриаршим», кто-то «безблагодатным», а кто-то посчитал себя «достойным» совершать христианские требы без участия священства. И следует сказать, что такие «сектантские» разделения сохранились и до наших дней в виде различных «истинно-православных» и «катакомбных» церквей, не имеющих отношений с другими православными христианами и каноническими Церквями.
Описал о. Пётр и некоторые события, произошедшие непосредственно в храме, о которых вряд ли можно было бы узнать из других документальных источников. Например: «…Задолго до приезда Тихона, накануне Введения во храм Пресвятой Богородицы 20 ноября, у меня в церкви случилось несчастье: в алтаре, по независящим от нас причинам, загорелся потолок, огонь перебросило на престол, сгорели одежды престола, обгорело Св. Евангелие и под ним илитон — платок, в который завёрнут Св. Антиминс. Пожар был ликвидирован, прихожане в две недели исправили повреждения, и на 4-е декабря было назначено освящение церкви. Приглашал я на освящение гомельское духовенство, но оно отказалось, только о. Владимир Зубарев и Белицкий о. Михаил Потеюк дали своё согласие. Предварительно была послана телеграмма Патриарху Тихону о принятии нас в молитвенно-каноническое общение и благословить освящение храма, на что полученным ответом Патриарх нас благословил… Этой телеграммой я и приход фактически были приняты в молитвенно-каноническое общение со Святейшим без посредства Романкевича…».
Казалось бы, ситуация с переходом прихода в общение с Московским патриархатом была разрешена положительно, но приезд епископа Тихона вновь обострил ситуацию по этому вопросу. Когда о. Пётр явился к архиерею, последний через городского благочинного Павла Керножицкого был проинформирован о положении дел в городе и, в частности, о «тенденциозной» деятельности Полесского прихода и его настоятеля. Состоялся особый разговор. Епископ потребовал от о. Петра совершить исповедь у протоиерея Павла Левашёва и принести публичное покаяние в Полесском храме на второй день Пасхи 1925 года, куда Тихон намеревался прибыть по приглашению прихожан. Встреча состоялась в Великий Четверг, поэтому у о. Петра было совсем мало времени для выполнения поставленных условий. К тому же он не испытывал никакого уважения к о. Левашёву, считая его «маньяком», но всё же исповедь у него совершил, а также совершил всенародное покаяние в храме. По мнению священника, «вся эта комедия, придуманная жестоким монахом Тихоном, была сделана для моего унижения».
В данный момент на сцену событий в очередной раз вышла его супруга.
Посетив епископа Тихона в Гомеле и в дальнейшем написав ему несколько писем в Москву, она добилась, чтобы он запретил о. Петра в священнослужении в пределах Полесского прихода, что архиерей и совершил на основании «неоднократных письменных заявлений жены». Протоиерей подчинился, но написал епископу письмо, в котором потребовал над собой гласного суда, и стал ждать ответного решения.
Во время его запрещения богослужения в церкви стал совершать благочинный протоиерей Керножицкий. Однажды, когда собравшиеся прихожане громогласно высказали своё негативное мнение о супруге о.Петра, которая «губит своего мужа», последняя, услышав это, побежала в 3-е отделение милиции и заявила, что «в ограде Полесской церкви происходит многолюдное контрреволюционное собрание». Прибывший конный наряд во главе с начальником отделения спокойно выслушал верующих, успокоил. их и разрешил молиться далее, не найдя здесь никаких контрреволюционных собраний. Через несколько дней после этой выходки жены, о. Пётр получил от епископа Тихона письмо, в котором ему предлагалось устроиться на Украине, и в случае его согласия со стороны епархии будет дан самый наилучший отзыв. Священник не согласился и продолжал отстаивать своё право служить только на Полесском приходе, а его прихожане по своей инициативе трижды ездили в Москву, и, как указывалось выше, с их помощью через три недели после запрещения о. Пётр был восстановлен в служении.
По этому поводу священник в дневнике отметил следующее: «…Находились люди, которые радовались моим переживаниям и торжествовали. К числу таких относился и мой сослуживец диакон Шкляревский… Накануне Воздвижения я получил от делегатов, поехавших в Москву, письмо, что запрещение с меня снято и я восстановлен в должности настоятеля… Письмо я прочитал вслух, в присутствии Шкляревского и нескольких прихожан. Настало время совершать богослужение. Иду в церковь. Там я застал порядочно народа. Священника Керножицкого… предупредил, что служить теперь буду я. Вошёл в алтарь, собрался совершать службу, но слышу на клиросе… какие-то возбуждённые реплики и митингование. Выйдя из алтаря, обращаюсь к нему, Володе (Шкляревскому), что мы собрались в церкви не митинговать, а молиться, а если вам неугодно прекратить разговоры — прошу выйти из церкви. Я вошёл в алтарь, следом забегает Володя, бегает по алтарю, размахивает руками и кричит, что не будет служить с обновленцем, не будет служить с красным. Я указал ему на дверь и сказал: “Вон отсюда! Не мешайте мне служить!” Мой отпор подействовал на Володю, он возвратился на клирос и приступил к исполнению своих обязанностей. О поступке диакона я счёл своим долгом сообщить… прихожанам, тот пытался вступить со мной пререкания, но я оборвал его…».
Но такое благополучное разрешение судьбы о. Петра категорически не устроило его супругу. Она перестала посещать Полесский храм и предпочла ходить на богослужения к о. Левашёву, служившему в кладбищенской Рождество-Богородицкой церкви. Там она говорила своим слушателям, что её муж — обновленец, а дома неустанно продолжала устраивать скандалы, из-за которых священнику приходилось ночевать, несмотря на 30-градусный мороз, даже на чердаке или не приходить домой по нескольку дней. Своим необузданным характером Вера продолжала славиться на весь Гомель, и если она замечала, что её муж разговаривал с какой-либо прихожанкой, то последняя тут же «удостаивалась» отборных ругательств и проклятий. При этом «благоверная жена» установила в доме такой быт и порядок, при котором о. Петру вынужденно приходилось исполнять все хозяйственные работы, чтобы не нарваться на очередную волну гнева и бурного скандала.
Как сложилась дальнейшая судьба его супруги — данных в дневнике не показано. Ограничившись описанием гомельских событий середины 1920-х гг., далее о. Пётр решил изложить некоторые события, произошедшие с ним в 1915-1917 гг., а потом на последнем листе проставил дату окончания 1-й части — 26 марта 1932 года, с намёком на то, что будет 2-я часть. Возможно, продолжение дневника действительно существовало, но оно до наших дней не сохранилось. Как известно, жизнь протоиерея оборвалась в ночь на 1 ноября 1937 года, когда его расстреляли по приговору особой тройки НКВД.
Из других документов известно, что 24 мая 1925 года состоялось собрание приходского совета, на котором о. Пётр попросил освободить его от должности председателя этого совета. В этот же день новым председателем совета единогласно был избран Николай Михайлович Лисицин, проживавший по ул. Ярославской, д. 41, однако 27 февраля 1927-го на основании жалоб прихожан его освободили от этой должности «за бездеятельность». Вместо него новым председателем был избран Фёдор Никифорович Щербинин, а обязанности секретаря совета возложили на полесского диакона Владимира Шкляревского.
19 июля 1929 года, незадолго до закрытия церкви, церковный совет подал в городской Адмотдел заявление, в котором излагалась необходимость принудительного выселения из церковной сторожки гр-на Хружко Владимира, «который был от службы сторожа уволен и на его место принят другой сторож, подлежащий вселению в сторожку для охраны имущества церкви», и просил передать это заявление в народный суд. Адмотдел согласился с требованием совета, приобщил к заявлению своё ходатайство «о выселении вышеуказанного гражданина» и направил документы в суд 3-го городского участка.
Немногим ранее, в начале июня, церковно-приходской совет уже обращался в Адмотдел с жалобой на строителей, которые около церковной территории возвели несколько бараков и приступили к постройке административного здания для правления Западных железных дорог. Ранее под это строительство была изъята земля у проживавших рядом с церковью частных лиц, однако строители при ведении работ незаконно срубили несколько церковных лип и плодовых деревьев, повредив при этом и ограду. Жалоба была переадресована в горкоммунотдел, но, скорее всего, она не имела никакого рассмотрения, т. к. через несколько месяцев церковь намеревались закрыть и переоборудовать под общественные нужды.
Никольскую улицу, на которой располагался храм, переименовали в честь пролетарского поэта-безбожника Демьяна Бедного, а Церковный переулок стал Клубным. Новые хозяева снесли два яруса церковной колокольни, разрушили купол, местами заложили окна, уничтожили внутреннее убранство и превратили церковное здание в клуб для рабочих, а потом в складское помещение. Дальнейшие репрессивные действия властей привели к тому, что в 1939 году в Гомеле и на территории области была полностью ликвидирована легальная церковно-приходская жизнь. В 1940 году снесли Преображенскую церковь, в дальнейшем планировалось разрушить и Никольскую, однако этим планам помешала война.
Время оккупации
Передовые немецкие части вошли в Гомель в ночь с 19-го на 20-е августа 1941 года. Почти сразу за ними в город прибыли те, кого сами немцы официально называли местной администрацией. Установить «новый порядок» и в зародыше задушить в гомельчанах волю к сопротивлению призван был ряд карательных органов: штаб 221-й охранной дивизии, который дислоцировался в здании школы на улице Рогачёвской, военно-полевая комендатура — на улице Пролетарской, отделение тайной полевой полиции ГФП-724 — на улице Плеханова, группа полиции безопасности — на улице Столярной, в знаменитом «доме Коммуны» дислоцировалась «Абвергруппа-315», областное и городское управления полиции — на улице Советской, полевая жандармерия — на улице Ветреной, а на городском ж.-д. узле действовали вспомогательные жандармские и полицейские управы.
Город был разбит на шесть участков, каждый из которых обслуживался не менее сорока полицаями. Их работа на первых порах сводилась к составлению списков коммунистов, комсомольцев и тех, кто был лоялен к Советской власти. Столь широкие критерии в определении врагов фашистского режима позволили немцам в кратчайшие сроки развернуть в городе жесточайший террор. Не только против партизан и подпольщиков, но и мирного населения. На месте нынешней площади Восстания фашисты организовали пересыльный лагерь для военнопленных «Дулаг-121».
На месте нынешней площади Восстания фашисты организовали пересыльный лагерь для военнопленных «Дулаг-121».
Факт известный, но мало кто знает, что он из себя представлял. Бывший узник лагеря Губин, чудом избежавший смерти в нём, спустя 35 лет после освобождения Гомеля по памяти составил его схему. Помимо обязательных административного корпуса и помещений охраны, здесь были кладбище, два барака для пленных, выполнявших физические работы, и три — для ослабевших узников. Также были предусмотрены барак для вновь прибывших заключённых (преимущественно из числа местного населения), место для сжигания трупов и несколько пулемётных вышек. Издевательства над людьми начинались с первых минут их ареста. Спать им приходилось на сырой земле, о регулярном питании даже речи не шло. Еду варили в грязных котлах, и чаще всего её готовили из гнилых овощей. Так называемую пищу заключённые получали кто во что: в котелки, консервные банки, шапки или пилотки. Голод вынуждал людей есть всё, более-менее пригодное в пищу, даже дождливым летом на территории лагеря невозможно было отыскать и травинки — всё съедалось подчистую.
Помимо концлагеря, новые власти организовали в Гомеле четыре еврейских гетто: в Монастырьке, Новой Белице и на Ново-Любенской и Быховской улицах. Но и мирное славянское население города было поставлено на грань выживания. В приказах оккупационных властей особенно подчёркивалось, что граждане, которые отказываются работать на «Великую Германию», должны самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым, в первую очередь — продуктами питания.
Особенно явной грабительская сущность представителей «нового порядка» стала видна с наступлением холодов. Рассчитывая на молниеносную победоносную войну, фашистское командование не позаботилось, чтобы обеспечить своих солдат зимним обмундированием. Дабы спасти их от лютого мороза, фашисты объявили в городе сбор тёплых вещей. Однако добровольцев одевать солдат вермахта среди гомельчан нашлось не много, и тогда фашисты создали специальные команды. Они обходили дома граждан и забирали буквально всё, что могло пригодиться: одежду, обувь, продукты, фураж. Войдя в раж от безнаказанности, немецкие мародёры и предатели-полицаи не стеснялись прямо на улице раздевать людей до нижнего белья.
Рабочий же день на промышленных предприятиях в период оккупации составлял 10 и более часов. За малейшее непослушание или проступок рабочих сажали в тюрьму, но чаще решали вопрос кардинально: их просто расстреливали. Особенно нелегко приходилось работающим на Гомельском паровозо-вагоноремонтном заводе. Организовав здесь ремонтную базу, фашисты установили 12-часовой рабочий день. Кормили заводчан один раз в сутки. Обед состоял из тарелки сваренного на травах супа, в котором нередко плавали черви. Норма хлеба, выпекавшегося из гречневых высевок и отрубей, составляла 100-150 граммов в сутки. Для подавления неминуемого среди рабочих недовольства, фашисты из службы безопасности регулярно избивали «подозрительных», к которым причисляли любого подвернувшегося под руку. Не гнушались палачи и откровенными провокациями. В феврале 1943 года с помощью предателя они провели на заводе перепись рабочих, готовых оказать помощь наступавшей Красной Армии. Записалось около двухсот человек. Все они вскоре были арестованы и отправлены в тюрьму, где подверглись чудовищным пыткам. 22 февраля всю арестованную смену вывезли в район деревни Лещинец, в трёх километрах от города (ныне Западный микрорайон), и расстреляли.
В Гомеле, Новой Белице и рабочем посёлке Костюковка действовал комендантский час.
Нахождение на улицах запрещалось в установленное время и строго наказывалось. Людям запрещались поездки и хождение без специальных пропусков. Каждый, кто задерживался без документа, считался партизаном и расстреливался на месте. Вдоль железной дороги оккупанты создали запретные зоны от 100 до 300 метров, и любое нахождение в них местного населения каралось смертью.
Отличительными чертами оккупационного режима были не только массовый террор и убийство мирного населения, но и попытки «пряником» привлечь на свою сторону жителей Гомеля. В городе работал радиоузел, по которому передавались не только распоряжения и приказы оккупантов, но и концерты, чередующиеся с лживыми новостями, разговорами о богатой жизни в Германии и т.п.
Открывались магазины, мастерские, работали аптеки, дети могли посещать школы, в которых преподавание осуществлялось на русском языке и велась антисоветская пропаганда. Жители Гомеля имели возможность выписывать немецкую газету «Новый путь», выходил журнал, работал театр. Ещё одним «пряником» оказалась возможность верующим, за исключением евреев, открыть и посещать храмы и участвовать в православных и католических богослужениях.
После полной ликвидации в предвоенное время на территории Гомельской области храмов и монастырей, нелегальные формы церковной жизни продолжали сохраняться в узком кругу верующих. Начало немецкой оккупации запустило процесс возрождения приходов и возвращения немногочисленных оставшихся в живых и бывших на свободе клириков к открытому служению. В этих условиях некоторые южные районы Гомельской области вошли в пределы комиссариата «Украина», а все остальные территории пребывали в области армейского тыла и управлялись штабом группы армий «Центр». Оккупационная администрация изначально попустительствовала чаяниям верующих, не возбраняя им занимать бывшие церковные здания и избирать своих священников, но потом стала контролировать этот процесс и откровенно вмешиваться в него.
Как уже ранее указывалось, заметную роль в организации церковной жизни в Гомеле и его окрестностях изначально сыграл протоиерей Николай Гейхрох, он же в последующем стал местным благочинным. По его свидетельству, после вступления в Гомель немцев богослужения возобновились в кафедральном соборе, в котором поочерёдно стали служить, скорее всего, лютеране, после них католики и только потом православные. Такое положение вызвало недовольство у местного населения, так как собор изначально являлся православным и никогда не был кирхой или костёлом. После обращения верующих в городскую управу, им разрешили служить в Георгиевском храме, а к концу года немцы освободили кафедральный собор и разрешили открыть Полесский храм.
Вот как о. Николай описывал данные события: «…Первое свое служение я совершал в соборе по распоряжению немецкого коменданта, который обязал меня… открыть храм в Гомеле и организовать церковную жизнь. После первого служения в соборе верующие собрались и пригласили меня остаться у них священником. С тех пор я и начал своё служение в Гомеле. С наступлением холода помещение собора было оставлено немцами, и прихожане собора приступили к его ремонту, устройству иконостаса и приобретению церковной утвари. Так как население Гомеля было многочисленное…, то жители Залинейного района обратились в городское управление о предоставлении им здания бывшей Полесской церкви, в которой был устроен киноклуб. После получения разрешения и произведения ремонта, Полесская церковь была освящена 17 декабря 1941 года добрушским игуменом Иннокентием и мной… Но, несмотря на открытие Полесской церкви, там священника не было до 20 апреля 1942 года, и только когда был назначен из села Борщёвки священник Константин Караскевич, началось в ней регулярное служение. Кроме того, по ходатайству верующих 17 марта 1942 года был освящён собор иеромонахом Макарием (Харьковым) и иеромонахом Евфросином (Башлаковым), и последний начал служить в соборе и был там до июля 1942 года, после чего ушёл в дер. Грабовец (Грабовку) Тереховского района, мотивируя свой уход слабостью здоровья. Таким образом, было открыто в гор. Гомеле три храма: по Советской улице — Георгиевская церковь, в парке на берегу реки Сож — Петро-Павловский собор, в Залинейном районе -Полесская Николаевская церковь. Всеми делами по открытию приходов и назначению священников на приходы со дня вступления немцев и до июня 1942 года ведал Отдел народного просвещения при городском Управлении. Заведовал Отделом Будзилович Николай Николаевич».
[…] О назначенном к Полесской церкви священнике Караскевиче рассказывалось в предыдущей главе. В начале 1922 года он значился настоятелем при Борщёвской Николаевской церкви нынешнего Речицкого района и во время изъятия церковных ценностей в пользу голодающих российского Поволжья заявил, что «ничего не имеет против изъятия, но из-за болезни высшего начальства (благочинного) предпринимать что-либо в этом отношении не желаю». В 1931 году был арестован «за антисоветскую агитацию» и приговорён коллегией ОГПУ к 5 годам заключения в ИТЛ. После освобождения проживал в Гомеле, осенью 1941 года принял участие в открытии Борщёвской церкви и служил при ней до переезда в Гомель.Также следует отметить, что возрождение церковной жизни в условиях немецкой оккупации стало происходить не только в Гомеле, но и на территории всей Белоруссии. […]
В самом же Гомеле и прилегающих районах в середине 1942 года произошла ещё одна волна активизации церковно-приходской жизни. Непосредственно связана она с миссионерской деятельностью архимандрита Жировичского монастыря Серафима (Шахмутя) и священника Григория Кударенко. В январе 1942 года по распоряжению церковных властей они были направлены в Восточную Белоруссию для организации церковной жизни. Их маршрут пролегал через города Витебск, Орша, Быхов, Могилёв, Жлобин, Гомель и др., и по мере продвижения миссионеры открывали церкви и улаживали спорные вопросы с представителями оккупационных властей. В Гомель они прибыли 4 июля 1942 года и находились здесь более года. Их принял у себя протоирей Гейхрох, а потом их устроили в одно из помещений при Петро-Павловском соборе, которое освободил иеромонах Евфросин (Башлаков). Отец Серафим стал настоятелем собора, его клириком — Кударенко, и об их назначении на данные должности перед немецкими властями непосредственно ходатайствовал о. Гейхрох.
О священнике Григории Лаврентьевиче Кударенко известно следующее. Родился 30 сентября 1895 года, уроженец села Козы-ревка Херсонской губернии, сын крестьянина. В 1916 году окончил коммерческое училище в городе Елизаветграде (ныне — Кропивницкий (Украина), до 2016 года — Кировоград — примем, ред.) и в мае этого же года был призван в армию. По октябрь 1917 года воевал на Юго-Западном фронте в звании прапорщика, затем вернулся на родину. В 1919 году призван в армию генерала Деникина, в январе 1920-го под Краковом попал в плен к полякам, но в составе группы других пленников сумел совершить побег. Проживал в г. Слониме и работал разнорабочим по найму. В 1927-1930 гг. был сторожем при Слонимском соборе, в котором выполнял и другие церковные послушания. В 1930 году поступил в Жировичский монастырь, был келейником у Пантелеймона (Рожновского). В мае 1941 года рукоположен в сан диакона и потом во священника, с августа с. г. находился в Минске. В Гомеле находился до конца сентября 1943 года.
По воспоминаниям о. Гейхроха, во время оккупации ему пришлось восемь раз посещать коменданта Гомеля. Первый раз в сентябре 1941 года — по поводу скорейшего открытия в городе церкви, потом в январе 1942-го — в связи с необходимостью подачи сведений о количестве священников в Гомельском районе, а потом в июле этого года — по поводу предоставления для Шахмутя и Кударенко мест служения при соборе. В августе 1942 года он уже совместно с о. Серафимом попытался добиться у немцев разрешения преподавать в школах Закон Божий, но безрезультатно, а 1 января 1943 года вместе с миссионерами вынужден был от лица духовенства поздравить с Новым годом коменданта Гомеля. В шестой раз о. Николая вызывали в СД в 1943-м для беседы с сотрудником немецкой контрразведки, а в июне с. г. вновь вместе с о. Серафимом обращался к коменданту о переводе в Гомель «архиепископа» Николая Автономова. Но когда стала известна обновленческая позиция последнего, то пришлось в восьмой раз посетить коменданта, чтобы не допустить приезда приглашённого кандидата в Гомель. Компрометирующие сведения на Автономова были предоставлены епископом Черниговским и Нежинским Симеоном (Ивановским), когда о. Серафим лично навестил этого владыку, и тот выразил Автономову своё недоверие, сказав, что последний самочинно именует себя «архиепископом Мозырским и православным архиереем не является». Но, несмотря на протест, Автономов посетил Гомель, но, как известно, пробыл здесь совсем недолго.
Вот как о. Гейхрох изложил гомельские события 1942-1943 гг. в докладной записке от 15 января 1944 года: «…Прибыл в гор. Гомель из Минска как представитель Православной Миссии митрополита Пантелеймона архимандрит Серафим, с ним священник Григорий Кударенко… С этого времени все дела по назначению священников и открытию приходов перешли в ведение архимандрита Серафима, который назначил меня благочинным гор. Гомеля и Гомельского района. После назначения меня благочинным мне было дано распоряжение из Городского Управления ежемесячно к 1-му числу давать сведения о развитии церковной жизни, а так же сообщать, как посещают верующие храмы, о настроениях населения по отношению к немцам, как посещает молодёжь церковь, произносятся ли проповеди в церквах против партизан и безбожия. Кроме того, 20 апреля 1942 года было мне распоряжение от Городского Управления о совершении служения в день рождения Гитлера с провозглашением ему многолетия.
С прибытием архимандрита Серафима (Шахмуть) и священника Григория Кударенко жизнь церковная начала развиваться. Архимандрит был назначен митрополитом Пантелеймоном настоятелем Гомельского собора, ему было отведено помещение в парке при соборе. Его старанием был открыт 19 августа 1942 года в Чонках (под Гомелем) женский монастырь, где было около 25 человек монахинь, настоятелем монастырской церкви был назначен иеромонах Макарий Харьков, а настоятельницей монастыря — игуменья Поликсения. Из комендатуры архимандриту давались пропуска на проезд в районы для открытия, и освящения храмов, и им назначались уполномоченные по районам. Кроме того, им же назначались кандидаты для рукоположения во священники. Таковые направлялись в Минск. К тому же нужно заметить, что все распоряжения и пропуска для посвящения во священники и диаконы давались только комендатурой, отделом, которым ведал доктор Шварц, от которого исходили распоряжения по вопросам церковной жизни. В 1942 году — в июне, июле, августе — были даны пропуска в Минск к архиепископу Филофею следующим лицам: Жукову Якову, Прищепову Антонию, Пилипенко Антонию, Босякову Андрею, Каменеву Стефану, Байкову Андрею, Кардашову Александру и Джасову Тихону. Из направленных лиц двое — Каменев Стефан и Джасов Тихон — были рукоположены в диакона, а все остальные — во священники. В конце 1942 года комендатура прекратила выдачу пропусков и некоторые каноидаты для рукоположения ездили в город Чернигов, а именно — из села Красное (Гомельский район) Гончаров Феодор и из села Бор-щёвка (Речицкий район) Мегченко Михаил — к архиепископу Симону, который их и рукополагал.
В 1943 году комендатура совершенно отказала в пропусках. Архимандрит Серафим совместно с начальником области получили от VII-го отдела комендатуры разрешение пригласить в Гомель из Речицы архиепископа Николая Автономова для служения в Гомеле и рукоположения пригодных кандидатов во священники. Архиепископ Николай Автономов прибыл со своим секретарём и протодиаконом и разместился на квартире архимандрита. Первое служение он совершил в соборе при большом стечении верующих. Но первое служение в соборе архиепископа произвело неприятное впечатление на верующих, особенно его проповедь, направленная исключительно на поддержку фашистов, так и его наружный вид: стриженный и без бороды, без мантии, а также вообще не имевшего архиерейского вида. Но ещё больше он оттолкнул верующих своим служением на площади 22 июня, в день объявления войны Германией Советскому Союзу. Здесь, при большом стечении народа и присутствии немецких и гражданских властей, архиепископ сказал проповедь, где восхвалял Гитлера, что он дал нам свободу и под его руководством будет создана новая Европа, призывал всех помогать немецкой армии и вступать в ряды добровольческой армии, а также всеми мерами бороться с партизанами и помогать немецким властям выявлять партизан. В конце молебна сам архиепископ возгласил многолетие Гитлеру. Такое выступление архиепископа на нас, участвовавших в молебне, произвело неприятное впечатление, и после молебна верующие заявили архимандриту, что если будет переведён в Гомель архиепископ Николай, то они не будут ходить в церковь.
Архиепископ Николай служил в Добруше, Чонском женском монастыре, Ново-Белице, Петро-Павловском соборе и Полесской Николаевской церкви. Во время служения архиепископа Николая были рукоположены во священники диаконы: в Буду-Кошелёвскую о. Иерофей из монахов, в село Старую Белицу о. Досифей, тоже из монахов, к Ивольской церкви Уваровичского района Михаил Топтухин, в местечко Уваровичи диакон Тихон Джасов, диакон Стефан Каменев к Скитковской церкви. После служения на площади архиепископу Николаю было передано настроение верующих г. Гомеля, что ему крайне не понравилось, и было подано заявление в VII-й отдел, что кандидатура архиепископа Николая неприемлема и нежелательна, к этому же распространились слухи, что он архиепископ обновленческой церкви, о чём также сообщалось в Житомирском ЕУ. После этого связь с архиепископом Николаем была прекращена…
…В 1943 году, в апреле месяце, было распоряжение из СД о явке всем священникам как города, так и Гомельской области, в СД, причём каждому являющемуся было назначено особое число и часы, к каковому времени должен явиться. Извещения о явке принимались через полицейские участки. Когда являлись туда для допроса, шеф правления СД, молодой человек… заставлял по несколько часов ожидать… Тех священников, которые приносили шефу яички, сало и масло вызывали без очереди… Меня лично вызывал три раза.
Первый раз допрашивал меня, кто мои родители…, вообще мою родословную от дедушки и бабушки. Второй раз вызывали по вопросу, почему не являются на допрос все священники… Третий раз я был вызван по поводу того, что каждая церковь должна иметь точное количество верующих, город должен быть разделён на приходы, с обозначением того, кому какие улицы принадлежат и какие деревни входят в состав каждого прихода… Было дано распоряжение шефом СД, чтобы архимандрит Серафим и я составили список всех открытых церквей по Гомельской области, с указанием времени постройки церкви, какое здание — каменное или деревянное, кто священник и т. п. Сведения эти в 2-х экземплярах должны были быть предоставлены шефу к 1 августа 1943 года, но когда их принесли, то шефа уже не было, он был отправлен на фронт, а новый шеф сказал, что ему это не нужно…».
Вскоре после удаления Автономова из Гомеля о. Серафим был арестован по подозрению в симпатиях к большевизму. Основанием для ареста послужил факт приглашения им архиерея «обновленческого поставления», о чём он изначально не знал. Обновленцы не пользовались доверием со стороны оккупационной администрации, т. к. они ещё в 1920-е гг. зарекомендовали себя идейными сторонниками советской власти и по существу большинство из них были тайными агентами ГПУ-НКВД. После проведённого разбирательства архимандрит был освобождён и вернулся к служению в соборе, но к этому времени власти ограничили проведение богослужений: в будние дни они запрещались, а в воскресные дни должны были заканчиваться не позднее 8 часов утра…
Освобождение Гомеля произошло 26 ноября 1943 года. Москва салютовала 20-ю артиллерийскими залпами из 224-х орудий в честь доблестных войск Белорусского фронта, освободившим первый областной центр Белоруссии. За отличие в боях 23 воинских подразделений получили почётное наименование «Гомельские».
[…] Не все гомельские священнослужители ожидали прихода советских войск. Протоиерей Гейхрох указал, что вместе с немцами эвакуировался только один священник — Константин Караскевич, служивший при Полесской церкви.Полесская церковь в первые послеоккупационные годы имела значительно лучшую сохранность, чем собор, и это обстоятельство позволило 1 мая 1944 года архиепископу Василию назначить к ней настоятелем протоиерея Михаила Прокофьевича Кротта. […]
Летом 1944 года полесский церковный совет обратился в горисполком по поводу расширения прохода к церкви, и данное заявление имело положительное решение: «…Ввиду того, что главный вход в Николаевскую церковь за Полесским переездом затеснён забором дворов общежития кондукторских бригад, расстояние от которого составляет 3 метра, обязать начальника кондукторского резерва тов. Куиш отнести забор на расстояние не менее 6 метров от крыльца и перенести находящуюся за забором у церковного входа надворную уборную на другую сторону двора».
Осенью 1944 года о. Михаил принимал участие в специальной следственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков против рабочих Гомельского паровозоремонтного завода. В марте 1945 года он, в соответствии с действующим законодательством о религиозных культах, совершил государственную регистрацию приходской общины и получил от областного уполномоченного Совета по делам РПЦ справку № 5, дававшую ему право быть настоятелем при Полесской (Николаевской) церкви и совершать религиозные требы для своих прихожан. Проживал на квартире по ул. Воровского, 66. Повторная регистрация прихода и священника состоялась 26 июня 1946 года, о чём были выданы соответствующие справки, и в этот день был заключён договор между Железнодорожным райисполкомом и учредителями прихода (20 человек) о бессрочном и бесплатном пользовании церковью и её имуществом (согласно описи) для удовлетворения религиозных потребностей.
В это же время из числа учредителей прихода избрали церковный совет и создали ревизионную комиссию. В ц/совет вошли:
— председатель ц/совета -протоиерей Кротт М. П.3;
— церковный староста — Хапаева Мария Ивановна, 1900 г.р., домохозяйка, прож. по ул. Путевая, 6;
— помощник старосты — Русак Яков Петрович, 1888 г. р., пенсионер, прож. по ул. Октябрьская, 5;
— казначей — Страдомская Анна Павловна, 1890 г. р., домохозяйка, прож. по ул. Ворошилова, 1. В ревизионную комиссию избраны:
— Быховцев Андрей Иванович, 1888 г. р., дежурный на ж,-д. станции, прож. по ул. Сортировочная, 17;
— Костюк Степан Иванович, 1875 г. р., пенсионер, прож. по ул. Держинского, 17;
— Железнякова Мария Марковна, 1895 г. р., домохозяйка, прож. по ул. Продольной, 53.
К договору прилагалась опись имущества, совершённая 1 июня с. г., в которой был указан всего лишь 91 культовый предмет из 19-ти наименований, что показывает бедность церкви в этот период.
Здесь следует отметить, что советские власти вовсе не стремились создать благоприятные условия для Православной Церкви на бывших под немецкой оккупацией территориях. В начале октября 1944 года в Минске состоялось республиканское совещание по агитации и пропаганде, на котором выступивший перед партийным активом П. К. Пономаренко сказал: «На освобождённых территориях расширили свою деятельность церковники. Священники пытаются восстановить в народе религиозные признаки. Имеются попытки расширить своё влияние. В ряде школ священники пошли проводить работу. В одной школе даже повесили икону. Товарищи, отправление всяких культов и нашу веротерпимость нельзя смешивать. Пусть они существуют, попы, но ведь мы должны заботиться, чтобы не поп стал фигурой, от которой будут зависеть поставки или весенний сев».
Для контроля за деятельностью белорусского духовенства Пономаренко учредил при СНК БССР должность республиканского уполномоченного Совета по делам РПЦ, а также соответствующие должности при облисполкомах.
В июне 1946 года к Полесской церкви был назначен протоиерей Иоанн Константинович Громов, 1894 г. р., сын псаломщика. Зарегистрирован на приходе уполномоченным Совета 6 июля, имел регистрационную справку № 5. […] Проживал недалеко от храма — ул. Новополесская, 53.
В связи с назначением нового настоятеля произошли перевыборы церковного совета и ревизионной комиссии Полесской церкви. В состав церковного совета вошли:
— протоиерей И. Громов, он же председатель церковного совета;
— Куган Александр Игнатьевич, 1886 г. р., церковный староста и секретарь совета, пенсионер;
— Ширин Александр Иванович, 1876 г. р., пом. старосты, пенсионер;
— Страдомская Анна Павловна, 1890 г. р., просфорня, домохозяйка.
Ревизионная комиссия:
— Косдюк Степан Иванович, 1876 г. р.; он же председатель этой комиссии, пенсионер;
— Румысов Тихон Прохорович, 1878 г. р., пенсионер;
— Шиманович Иван Иванович, 1878 г. р., пенсионер.
В 1947 году прихожане покрыли крышу храма новым железом, построили возле церкви вместо сожжённого немцами новый дом для проживания священника и на колокольню поместили три небольших колокола. Однако служение о. Громова в Полесской церкви не сложилось. Скорее всего, он был вдовцом и вне брака сожительствовал с женщиной по фамилии Мерзликина, о чём стало известно епархиальному руководству. 13 марта 1948 года новый архиерей Белорусской кафедры архиепископ Питирим (в миру Пётр Петрович Свиридов) издал указ следующего содержания: «…Определением моим… Вы, за грубое нарушение канонических правил Св. Православной церкви, а так же за невнимание к предостерегающему голосу своего Архипастыря об удалении из своего дома “сожительницы” Наталии Илларионовны, увольняетесь мною с занимаемой должности настоятеля Св. Николаевской церкви г. Гомеля с запрещением в священнослужении. О чём и даётся вам настоящий указ».
6 апреля 1948 года, в связи с закрытием Георгиевской церкви, правящий архиерей учредил вторые штаты при соборе и Полесской церкви и переместил к последней протоиерея Пиневича, с оставлением его благочинным Гомельского округа, и псаломщика Моисея Никитича Чуйко. Кроме того, своим указом от 3 апреля он переместил к сей церкви из собора на должность 2-го священника о. Задерковского.
Однако не все согласились с решением архиепископа запретить о. Громова в священнослужении, и уже в апреле месяце в епархиальную канцелярию поступило три многостраничных письма (одно из них анонимное), в которых утверждалось, что «…по наблюдению большинства прихожан навет, возведённый на о. Иоанна…, есть зависть, злоба и корыстные устремления лиц, устранённых от службы в храме…, мы увидели в нём достойного для нашего прихода и церкви пастыря…, за время своего пребывания… воспитал в прихожанах любовь к церкви, а также проявил заботу о нашем храме…, умоляем… оставить его в нашем храме». Владыка перенаправил одно из писем в Гомель, и 15 апреля благочинный о. Пиневич предоставил ему свой рапорт, в котором ситуацию с о. Громовым он описал так: «…Считаю своим долгом сообщить о ходе следствия над находящимся под запрещением священником… Следствие сопровождается большим не спокойствием среди небольшой группы свидетелей с его стороны. Отсутствие пастырского авторитета как со стороны Громова, так и со стороны Задерковского, угнетающе действует на прихожан… и церковный совет. Поэтому… поддерживаю высказанное пожелание семьи Задерковского о переводе его в родные места Западной Белоруссии». Дальнейшая судьба о. Громова неизвестна, и он, скорее всего, через некоторое время уехал из Гомеля, а о. Задерковский, несмотря на желание уйти на другой приход, остался на прежнем месте. Из вышеуказанного рапорта просматривалось желание благочинного о. Пиневича убедить архиерея ликвидировать 2-й штат при Полесской церкви, чтобы единолично ей управлять, и вот как он обосновал необходимость такой ликвидации: «…Указы о назначении к… Собору настоятелем иеромонаха Иоакинфа (Яроцкого) и 2-го священника о. Петра Бычковского мною получены. Указ о замещении вновь открытого места при вверенной мне Николаевской церкви ещё не получен. Ввиду того, что… утварь закрытой Георгиевской церкви… передана Петро-Павловскому Собору, верующие закрытой церкви имеют намерение возбудить ходатайство… об освящении правого придела Собора во имя Великомученика Георгия, а также ввиду того, что Николаевская церковь по своей вместимость в 4-5 раз меньше Собора, то все прихожане закрытой церкви отошли к Собору, а приход Николаевской остался в прежних границах. Во вверенном мне приходе проживает заштатный священник Каменев Стефан, которого я использую как требоисправителя в исключительных случаях, с Вашего разрешения… Прошу учесть вышеизложенное при решении вопроса о замещении вакантного 2-го священнического места… и осмелюсь выразить уверенность…, что обновление принтов Собора и Николаевской церкви благотворно отразятся на церковной жизни Гомеля».
Несмотря на доводы благочинного, архиерей не отменил свой указ о назначении о. Задерковского к Полесской церкви, тем более, что автора данного рапорта он уже в мае месяце отстранил от прихода, снял с должности благочинного и зачислил в заштат. Причиной этому послужило секретное сообщение, в котором говорилось, что о. Пи-невич на протяжении 1947-1948 гг. занимается спекулятивными действиями по приобретению и перепродаже свечей для церквей Гомельского округа, имея из этого личную выгоду, и проверка подтвердила такие факты.
Также из этого рапорта прослеживается судьба о. Каменева, бывшего диакона Полесской церкви. Очевидно, что после перерукоположения в священнический сан он по каким-то причинам не был назначен на приход, проживал в Гомеле и периодически, по поручению благочинного, исполнял различные религиозные требы. Предполагается, что скончался о. Стефан в начале 1950-х годов.
На должность настоятеля при Полесской церкви в мае месяце временно был назначен протоиерей Сергий Ханов, однако установочных данных на него не найдено. Находился он в Гомеле примерно по октябрь 1948 года. При передаче имущества церкви, совершённого по акту от 1 июля 1948 года в его присутствии, претензий со стороны церковного совета к бывшему настоятелю о. Громову не имелось. По описи в храме в это время числилось различное имущество из 143-х наименований (в т. ч. серебряные чаша с прибором и дарохранительца), и это указывает, что за прошедшие два года материальное положение церковной ризницы значительно улучшилось11.
[…] 30 октября 1948 года 2-му полесскому священнику Алексею Задерковскому удалось перевестись в Речицу. В это время здесь был закрыт Успенский храм, и с 27 октября его настоятель о. Кротт остался без места. Однако местной верующей общине разрешили служить в небольшом молитвенном доме, но новым его настоятелем решили назначить о. Алексея, а о. Кротта вновь перевести к Полесской церкви на место протоиерея Ханова. Но часть полесских прихожан негативно восприняла повторное назначение о. Михаила на приход, последовали жалобы и возражения в адрес архиерея, который своим указом № 151 от 21 февраля 1949 года решил переместить его, для пользы службы, на должность настоятеля к Петро-Павловскому собору.В 1948 году уполномоченные Совета и финотделы стали требовать точности в начислении налогов на церковный клир. Церковные советы приходов стали заключать договора о том, что священникам ежемесячно, с 1-го января, будет выплачиваться зарплата.
В это же время оклады священников Полесской церкви были установлены в размере 1000 рублей в месяц12.
9 мая этого года полесский совет заключил договор с псаломщиком Дроздовым Прохором Николаевичем о том, что последний получает ссуду из церковной кассы в размере 20000 руб. на приобретение жилого дома и возведение хозяйственных построек и обязуется погашать её ежемесячным внесением в кассу 300 рублей не позднее 1-го числа месяца. В случае невозможности полного погашения ссуды, ц/совет вступает в право владения постройками с возвращением ссудополучателю или его семье ранее внесённых в кассу денежных средств. Договор заверил своей подписью и печатью областной уполномоченный Совета Е. Цуканов. […]
1 апреля 1949 года в Полесской церкви состоялись перевыборы церковного совета, в состав которого вошли:
— церковный староста Дзедзюля Иосиф Иванович, 1883 г. р., сигнальщик железной дороги, прож. по ул. Дзержинского, 19;
— казначей Тарасюк Дорофей Максимович, 1883 г. р., кондуктор, прож. по ул. Путевая, 8;
— Логичный Алексей Михайлович, 1878 г. р., пенсионер, прож. по ул. Воровского, 33;
— Малашенко Степан Емельянович, 1887 г. р., рабочий конезавода, прож. по ул. Совхозной, 29;
— Порошин Даниил Игнатьевич, 1891 г. р., бригадир-садовник железной дороги, прож. по ул. 5-я Сельмашевская, 29;
— Румысов Тихон Прохорович, 1874 г. р„ бухгалтер железной дороги, прож. по ул. Бочкина, 11313.
Прошедшие выборы завершились потоком жалоб, потому что некоторая часть прихожан посчитала избранных лиц ставленниками о. Михаила Кротта, под председательством которого проходило выборное собрание. Кроме того, и часть соборных прихожан также посчитали неправильным назначение о. Кротта настоятелем к собору, и архиепископу, и уполномоченному Совета пришлось разбираться с этими «слёзными» ходатайствами. Одна из жалоб довольно интересного содержания касалась «спекулятивной» деятельности настоятеля собора, но вряд ли она была объективной, т. к. о. Кротт, как и прежде, продолжал пребывать на своей должности.
28 октября 1949 года, в соответствии с указом архиерея № 1210, протоиерей Бубен из Полесской церкви перемещён на должность настоятеля при Николаевском соборе г. Новогрудка.
После убытия протоиерея Бубена очередным благочинным Гомельского округа назначили исполнять о. Кротта… В это же время к Полесской церкви, в соответствии с указом № 1209 от 26 ноября 1949 года, был перемещён 2-й соборный священник Игорь Базилевич.
Из анкетных данных о. Игоря известно следующее. Родился он 11 августа 1913 гола, уроженец села Засулье Минской области, сын священника. Окончил в 1933 голу Виленскую духовную семинарию, в 1937-м — богословский факультет Варшавского университета со степенью магистра богословия, при этом длительное время работал законоучителем в церковно-приходской школе своего села. С ноября 1942-го по июнь 1944 года — иподиакон Новогрудского кафедрального собора и секретарь Новогрудско-Барановичского епархиального управления, а также преподаватель на пастырских курсах. В сан священника рукоположен 6 марта 1945 гола архиепископом Василием и до перевода в Гомель служил в местечке Крево.
Уже в первый месяц служения о. Базилевича в Гомеле, уполномоченный Совета вынес ему предупреждение «за перенос оброчной иконы из дома в дом в деревне Прудок, чем создал подобие крестного хода в рабочее время», а в целом о деятельности соборного священства он отметил так: «…Община… постепенно укрепляется, увеличивается её доход… До прибытия Кротта службы в соборе были только по воскресным дням, а теперь проводят три раза в неделю — четверг, суббота и воскресенье…, ранее служил один священник, который здесь надолго не уживался, а теперь три, и также имеется диакон… В 1949 году проведён ремонт: покрасили крышу, побелили стены и колонны, а далее предполагалось восстановить колокольню и живопись по указанию Архитектурного управления СССР… Собор посещают не только верующие города, но и из многих деревень ряда районов области…»
1 апреля 1949 года в Полесской церкви состоялись перевыборы церковного совета, в состав которого вошли:
— церковный староста Дзедзюля Иосиф Иванович, 1883 г. р., сигнальщик железной дороги, прож. по ул. Дзержинского, 19;
— казначей Тарасюк Дорофей Максимович, 1883 г. р., кондуктор, прож. по ул. Путевая, 8;
— Лозичный Алексей Михайлович, 1878 г. р., пенсионер, прож. по ул. Воровского, 33;
— Малашенко Степан Емельянович, 1887 г. р„ рабочий конезавода, прож. по ул. Совхозной, 29;
— Порошин Даниил Игнатьевич, 1891 г. р., бригадир-садовник железной дороги, прож. по ул. 5-я Сельмашевская, 29;
— Румысов Тихон Прохорович, 1874 г. р., бухгалтер железной дороги, прож. по ул. Бочкина, 113А.
Прошедшие выборы завершились потоком жалоб, потому что некоторая часть прихожан посчитала избранных лиц ставленниками о. Михаила Кротта, под председательством которого проходило выборное собрание.
Деятельности о. Игоря Никольско-Полесский храм обязан многим. Он как личность стал слишком популярным у прихожан, что местной власти не могло понравиться. Особенно у него не сложились отношения с уполномоченным Совета, который видел в священнике корыстолюбца, карьериста и враждебного «западника». Вот как он охарактеризовал его в одном из своих отчётов: «…В 1949 году в Полесскую церковь прибыл… Базилевич…, который в анкете (краткой) указал, что в 1928 году окончил богословский факультет при Варшавском университете, в котором, как известно, польские реакционные власти готовили в то время священников для проведения реакционной деятельности среди белорусского населения, проживавшего в Западной Белоруссии. В период немецкой оккупации в 1942-1944 гг. Базилевич, являясь враждебно настроенным элементом против Соввласти, не случайно служил личным секретарём у Новогрудского епископа Венедикта, который оказался предателем и как таковой бежал с немцами и сейчас находится где-то на Западе. Тогда Базилевич уехал к своему отцу, тоже священнику, проживавшему в Брестской области, и скрыл свою службу у предателя Венедикта. За время своей службы в Полесской церкви Базилевич развернул большую религиозную деятельность среди населения, которое в большом количестве теперь стало посещать эту церковь. В результате чего доход церкви из года в год значительно увеличивается…»
[…] Прибыв к месту назначения, о. Базилевич, в первую очередь, обратил внимание на запущенность и не ухоженность храма. Он сразу же спланировал его капитальный ремонт, обратившись к прихожанам собрать необходимые средства, а также нанял инженера-строителя для составления расходной сметы. В апреле 1950 года сметные документы были готовы, в соответствии с которыми стоимость ремонтных работ по государственным расценкам 1949 года составила 22856 рублей. Архиепископ Питирим благословил проведение ремонта, и через полтора года, 10 сентября 1951 года, специальная комиссия в составе протоиерея Кротта, священника Базилевича, старосты Дзедзюли и представителя Белгоспроекта Щекудова провела обследование отремонтированной церкви на предмет возможных аварий и обвалов, грозящих жизни и здоровью граждан. Общее состояние обследованного здания было признано удовлетворительным, никаких опасностей не найдено, но при этом комиссия посчитала нужным дополнительно провести следующие мероприятия:— восстановить ранее существовавшее центральное калориферное отопление (ныне отапливается печами);
— устроить постоянно действующую вытяжную вентиляцию и сделать в нескольких окнах створки для сквозного проветривания;
— отремонтировать и местами дослать по цементным плиткам дощатый пол и покрасить масляной краской, устроить эффективное сквозное проветривание сырого подвала;
— восстановить заделанные три окна в северной стене купола.
Акт заверили подписями присутствующие лица, и он был принят к исполнению.
В 1952 году в епархиальное управление о. Игорь подал следующие сведения о состоянии своей церкви:
— имеется антиминс с надписью архиепископа Питирима;
— на колокольне 4 колокола;
— отапливается тремя печами;
— крыша покрыта железом, замечания надзорной комиссии устранены — частично заменён пол;
— сумма оценки церковных строений — 211573 руб.;
— задолженности по налогам и страхованию не имеется;
— достаточно обеспечена утварью и книгами, всё имущество (более двухсот наименований) внесено в инвентарную книгу;
— ограда вокруг церкви деревянная хорошая;
— имеется причтовый дом, построенный в 1947 году;
— типовой договор с райисполкомом имеется;
— технический паспорт с планом церковных зданий имеется;
— церковная двадцатка в полном составе;
— псаломщик-регент — Дроздов Прохор Николаевич, также имеются заштатные священнослужители (фамилии не указаны);
— причт на установленном церковным советом жаловании;
— приходские деревни — Старая и Новая Мильча и Брилёво — от церкви на расстоянии около 4-5 км каждая;
— прихожане по национальному составу белорусы и русские;
— посещаемость храма зимой и летом удовлетворительная, отношение верующих к церковным Таинствам удовлетворительное, за исключением брака;
— в приходе имеются католики, сектанты, евангелисты и старообрядцы-поповцы, случаев присоединения к православию не имеется, фактов выступления против православия не имеется;
— свечи приобретаются на епархиальном складе благочинного; — факты приноса несознательными гражданами своих свечей были, пресечены причтом и церковным советом; — церковный совет: Дзедзюля Иосиф Иванович (староста), Тарасюк Дорофей Максимович (помощник старосты), Охрицевич Екатерина Владимировна (казначей);
— ревизионная комиссия: Порошин Даниил Игнатьевич (председатель), Малашенко Степан Емельянович, Железняков Степан Илларионович.
У церковного совета в 1950 году, кроме ремонта церкви, возникла необходимость заниматься судебными делами по поводу уволенной церковной уборщицы Шамреевой Матроны Тихоновны. Её отстранили от работы за прогулы, грубость и нецензурную брань в храме, но нарсуд постановил восстановить её на работе. К работе уборщицу не допустили, но ей продолжали выплачивать заработную плату в размере 100 руб. в месяц, и совет обратился к архиерею дать благословение на сокращение должности уборщицы при храме и уволить Шамрееву по сокращению штатов. Архиепископ Питирим согласился с данным предложением.
Кроме того, в ноябре этого года церковный совет вновь обратился к архиерею перенести срок внесения квартальных епархиальных взносов с декабря 1950 года на февраль 1951-го, т. к. при ремонте церкви возникла необходимость скорректировать стоимость работ в сторону увеличения, из-за чего не оказалось достаточных средств и требовалось время для их сбора. Архиепископ удовлетворил и это прошение.
Ремонт Полесской церкви продолжался и в последующие годы… Уполномоченный в квартальных отчётах 1951-1952 гг. записал ряд своих наблюдений: «…В Полесской церкви… внутри проводится ряд больших художественных церковных работ…, сделана новая и очень красивая алтарная перегородка с «вратами» сложной архитектурно-художественной работой, какие делались обычно когда-то в богатых церквях, и покрашена бронзовой краской.
На всей алтарной перегородке сделан ряд церковных и живописных видов и икон, окрашены рамки в бронзовую краску и вся перегородка отделана, как и в соборе, маслом под белый мрамор, теми же мастерами. Увеличилось количество икон и самодельных венков, сделанных бесплатно, а кое-кому платили из разноцветной бумаги, которую потом парафировали…, на что израсходовали крупную сумму денег…».
В дальнейших своих отчётах уполномоченный неоднократно выражал свою озабоченность растущей посещаемостью гомельских церквей, особенно в значимые религиозные праздники, и усилением влияния духовенства на верующих граждан. Из отчётов 1954 года: «…Рождественские праздники, как и в прошлом году, прошли с большой активностью и организованностью… В Гомельском соборе, в ночь с 6 на 7 января служил благочинный Кротт с 18 до 22 часов. Церковь приняла около 600 человек. Утром 7.01. было две службы, на которых было около 600 человек. То есть за Рождественские службы церковь посетило 1800 человек. В Полесской церкви было так же три службы и на дневных службах верующих было до 1000 человек. Кроме женщин разных возрастов было около 10% школьников, подростков и мужчин. Около церкви было не менее 1000 человек. Так же было мужчин средних и старших лет не менее 15-20%…
…Рождественские религиозные празднества духовенством проведены во всех действующих церквах и молитвенных домах в области с большой активностью и организованностью. Для проведения церковных служб в эти праздники духовенство при помощи активных церковников заранее ведут соответствующую подготовку по внутреннему украшению церквей разными веночками с цветами, вырабатываемыми самими верующими, которыми украшают иконы, ставят против амвона небольшую ёлку, которую украшают свечами, а некоторые верующие жертвуют полотенца, вышиваемые ручным способом, которые вешают на иконы. Из личного наблюдения выяснено, что в имеющихся двух церквах в г. Гомеле церковная служба в рождественские праздники происходила с большим участием верующих граждан, как и в прошлом году…
…В другой городской церкви, Полесской, расположенной в ж.-д. районе, служба производилась также 6.01. с 18 до 22 часов, а 7.01. и 8.01. церковная служба производилась днём, и в этой церкви посещаемость верующими была, как и в прошлом году, большая, около 500 человек… На улице, в ограде и на папертях этих церквей людей не было, а также никаких инцидентов не случилось. Эти церкви посетили в рождественский праздник примерно около 90% женщин разных возрастов, из них преимущественно были старики и среднего возраста женщины, но много было женщин моложе средних лет и меньше всего было молодёжи. Были в церквах школьники, но в небольшом количестве. Мужчин, как и в прошлом году, было не более 10%, главным образом старших и средних лет, а днём было в соборе несколько десятков подростков со своими родителями, которые привлекают своих детей посещать церкви…
…Заметно усилился хор певчих за счёт верующих. Например, в Полесской церкви поёт какой-то служащий Гомельского ж.-д. отделения, у которого имеется хороший голос-бас, и, будучи религиозным, он особенно трудился петь так, что ревел всю церковную службу. Все эти церковные украшения и пение хора певчих проводятся духовенством, безусловно, для привлечения в церковь большого количества верующих граждан и с целью личной наживы… […]
…Из поступивших сведений… установлено, что в 1954 году религиозный праздник “крещения” духовенство провело как в г. Гомеле, так и в районах с ещё большим количеством верующих, посетивших церкви и молитвенные дома, против прошлого года и против недавно прошедших рождественских праздников. Так, в г. Гомеле — соборе и Полесской церкви — церковная служба происходила вечером 18.01. с 19 до 23 час., а 19.01. было в обеих церквях две утренние службы подряд с целью привлечения большего количества верующих, а именно — ранняя с 8 до 11 часов, и поздняя — с 11 до 14 часов. В вечернюю службу 18.01. в соборе и Полесской церкви было, как и в прошлом году, полные церкви народа, но на папертях и на улице около церквей верующих не было. В ранней церковной службе 19.01. в этих церквах верующих было меньше половины церкви и главным образом это были старушки и другие пожилые женщины. Но на поздней службе в соборе и во второй церкви было настоящее паломничество. Например, в соборе было не менее 900 человек, что никто не смог туда пройти, так как в коридоре, на паперти и на улице в ограде стояло ещё больше народу, около 1000 человек, которые давили друг друга, стремясь попасть в собор и послушать службу.
…В “великий” пост говело в г. Гомеле в двух церквях до 600 человек в каждой… В благовещение и вербное воскресенье церкви были переполнены. Многие верующие шли с вербами в руках. Кроме того установлено, что в числе пожилых и средних лет верующих…, в основном женщин, было много в церквях молодёжи и подростков…, которые в вербное воскресение из собора шли во все стороны города с вербами в руках… Что же касается посещаемости верующими церквей и молитвенных домов в пасхальный религиозный праздник 25.04. с. г., то из добытых мною сведений установлено, что во всех церквях и молитвенных домах повсеместно было не только полно верующих граждан, но масса из них не вмещалась в церкви и стояли в церковных оградах и около молитвенных домов до окончания церковной службы.
…Так, из личного наблюдения в гор. Гомеле, установлено, что церковная служба в имеющихся 2-х церквях на «пасху” прошла при очень большом скоплении верующих. … следует отметить и такой мною выявленный факт, что из дальних населённых пунктов приезжало много верующих в собор и др. церковь: накануне “пасхи”, а именно в четверг, пятницу и субботу “освящать” пасхи (куличи). Всего было народа в соборе около 5 тысяч человек. В другой церкви (Полесской) также было очень много народа, вся церковь и три паперти было плотно заполнены народом, которого много ещё стояло колонной (полуподковой) в ограде около церкви. Всего было в этой церкви приблизительно около 3000 человек.
Масса верующих в эти церкви пришла из окружающих деревень на расстоянии до 15 км, например — из деревни Поколюбичи, что в 10 км от Гомеля. Сравнивая с прошлогодним посещением этих церквей верующими в пасхальную службу, можно считать, что в этом году их было больше, чем в прошлом…, была неимоверная давка, что несколько женщин старше средних лет в полуобморочном состоянии вытащили из боковых дверей церкви. Бросилось в глаза и то обстоятельство, что в этом году много было в церквях женщин средних и моложе лет, а также молодёжи обоего пола и даже школьного возраста. Были в церквах, хотя и несколько человек, демобилизованных солдат и много мужчин разных возрастов. Судя по их внешнему виду, больше всего мужчин было из рабочих ж.-д. транспорта в своих чёрных шинелях без погон, и других рабочих с других предприятий и ближайших деревень.
Насколько велика прослойка верующих среди всего населения области, которые ещё не отошли от церкви в силу живучести религиозных предрассудков, видно не только из приведённого выше, но из следующих фактов: в первый день пасхи и на второй день, 26.04, в г. Гомель… ни единого человека из колхозов не приехало на базары с сельскохозяйственными продуктами, и базары были совершенно пустыми, и горожане и домохозяйки, как и на рождественский религиозный праздник, вынуждены были с досадой возвращаться домой с базара с пустыми корзинками и сумками».
[…] В 1953 году настоятелю Полесской церкви Базилевичу необходимо было провести перевыборы церковного совета. На общем собрании должен был присутствовать благочинный округа, однако священник обратился к архиерею с просьбой, чтобы перевыборы происходили в присутствии не Кротта, а Речицкого благочинного Ревинского, потому что в противном случае между членами ц/совета может возникнуть большой скандал по подозрению, что кто-то из них является сторонником Кротта и был избран по его протекции. Архиерей согласился с предложением священника, да и сам Кротт также высказался против своего присутствия на собрании.Далее можно сказать об откровенно неприязненных отношениях псаломщика-регента Полесской церкви Дроздова к священнику Базилевичу, которые выразились в доносительстве на своего настоятеля в разные государственные органы, что, в конечном итоге, вынудило о. Игоря покинуть Гомель и уехать в другую епархию. На основании этих доносов уполномоченный составил отчёт для своего вышестоящего руководства и руководства облисполкома, с приложением к нему подробной докладной записки о выявленных злоупотреблениях следующего содержания: «…Настоятель второй Гомельской церкви (Полесской) Базилевич Игорь ведёт себя нагло и автономно, как вели себя когда-то католические миссионеры. По его инициативе летом 1957 года церковный совет подал заявление в Горисполком о пристройке крестилки к церкви. Так как в этой церкви имеется старинная пономарка, то Го-исполком отклонил его ходатайство. В связи с этим Базилевич в кругу своих приближённых сказал, что к таким властям он никогда не пойдёт унижаться. Также, в течение двух лет Базилевич часто приглашал заштатного священника Толкачёва Даниила (из Бобовичей) незаконно служить церковную службу и совершать требы, а сам он неделями отдыхал и уезжал в Киев для развлечения, потому что разбогател в г. Гомеле. Так, например, если в 1949-1950 гг. доход церкви выражался в сумме 70-80 тысяч рублей, то в 1956 году доход доведён до 175000 руб., а в 1957 году доход оказался в сумме 200000 рублей. В целях привлечения как можно больше верующих в церковь, ради личной наживы Базилевич не только дважды покрасил маслом все стены и потолок в церкви и расписал всю церковь церковной росписью, для чего покупал бочками олифу, но и сознательно допустил следующие злоупотребления.
1. В 1954-1955 гг. он провёл в церковь центральное отопление, которого никогда не было в этой церкви. Для устройства такого отопления Базилевич совместно с церковным старостой — проходимцем Борисовым — покупали незаконным путём похищенное частными лицами оборудование: трубы, гайки, батареи и даже два котла небольших новой блочной системы. Для этой цели израсходовали около 40000 рублей. Чтобы скрыть это преступление, Базилевич на купленные предметы достал через спекулянтов фиктивные счета.
2. Со времени установления центрального отопления в церкви, Базилевич через того же Борисова ежегодно покупает незаконным, а, следовательно, преступным путём в большом количестве топливо — уголь и дрова. Например, по церковному отчёту за 1957 год куплено угля 14 тонн и дров 12 куб. метров. Официальных документов на покупку этого топлива нет, лишь имеется акт, составленный приближёнными Базилевича: церковным старостой Борисовым, казначеем и председателем ревкомиссии о списании около 7000 руб., израсходованных на покупку указанного выше топлива. Таким путём они ежегодно, с 1954 года, покупают топливо и списывают израсходованные деньги на покупку похищенного топлива.
3. В апреле 1957 года Базилевич, через содействие священника Кривско-Довской церкви Рогачёвского района Потоцкого, купил несколько кряжей толстых, похищенных кем-то, которые распилил на пилораме комбината стройматериалов в г. Гомеле. Из этого пиломатериала Базилевич строит большой, трёхъярусный иконостас в церкви. На эти краденые кряжи Базилевич также имеет какие-то фиктивные документы.
4. Через спекулянтов, работающих в торговой сети и на строительстве, Базилевич закупил много ценного пиломатериала, который храниться в церковном сарае. Весной текущего года Базилевич решил самовольно и быстро пристроить трёхстенник к небольшому дому, находящемуся в церковной ограде по ул. Демьяна Бедного, в котором проживает второй священник этой церкви Ненадкевич Борис.
5. Регент данной церкви гр-н Дроздов Прохор Николаевич, проживающий по ул. Демьяна Бедного, дом 12-а, утверждает, что года четыре тому назад Базилевич купил несколько тысяч штук кирпича, похищенного неизвестными ему лицами из кирпичного завода. И когда он, Дроздов, сообщил об этом начальнику 4-го отделения милиции Караулову, который вместо того, чтобы Базилевича и лиц, похитивших кирпич, привлечь к уголовной ответственности, сообщил об этом Базилевичу, который за одну ночь спешно сделал из этого кирпича две печи и остался безнаказанным. По мнению Дроздова, Базилевич подкупил Караулова, который, став на преступный путь взяточничества, не случайно покровительствовал Базилевичу.
6. Далее гр-н Дроздов говорил мне, что как Базилевич, так и второй священник Ненадкевич Борис официально получают зарплату от церкви по 1200 руб. каждый в месяц, а фактически “зарабатывают’’ по 3000 рублей за счёт пожертвований верующих в кружки и присвоений денег, получаемых ими за требы. Подоходный налог они платят из расчета 1200 руб., а остальной свой доход всё время скрывают от финорганов.
Таким образом, как заявил мне Дроздов, Базилевич и церковный староста Борисов, будучи связаны со многими спекулянтами и расхитителями соцсобственности, превратили церковь в нелегальный пункт по скупке похищенных разных стройматериалов. Такие незаконные покупки стройматериалов Базилевич производит вопреки официальному указанию высших церковных властей. В частности, митрополит Минский и Белорусский Питирим в своём циркулярном письме № 2325 от 30.12.1955 года писал по данному вопросу (п. 2) следующее: “…Предлагаю духовенству, что все стройматериалы надлежит покупать легально в торгующих организациях, надлежащим образом оформляя покупки и ни в коем случае не пользоваться услугами частных лиц, которые в большинстве случаев предлагают стройматериалы, добытые незаконным путём, а согласно существующему законодательству не только хищение, но и покупка похищенного имущества является уголовным преступлением”.
Такое указание имеется и у Базилевича, который настолько обнаглел, что не признает даже советское законодательство. Для прекращений преступной деятельности, проводимой Базилевичем, считаю необходимым привлечь его к уголовной ответственности или же снять с регистрации духовенства. Об изложенном сообщаю на Ваше рассмотрение».
Как уже говорилось, у о. Игоря были сложные отношения с тогдашним уполномоченным Совета, который во всех действиях священника видел лишь его корыстную заинтересованность. Как он понимал, только «ради личной наживы» проводилось отопление, устанавливались иконостасы, красились и штукатурились стены и т. д., лишь бы больше приходило людей в церковь и больше ими оставлялось денег на его «развлечения». Также часть своей лепты в раскрытие «преступлений» Базилевича внёс и 2-й полесский священник Николай Артецкий. С его слов уполномоченный записал: «…Второй священник Гомельской (Полесской) церкви… уволился потому, что настоятель этой церкви Базилевич Игорь (западник) всё время платил ему только 500 рублей в месяц из кружки (пожертвования верующих на церковь), а себе брал 2000 рублей в месяц из основного церковного дохода. Кроме этого дохода Базилевич присваивает себе много денег за совершаемые им многочисленные требы верующим…», и далее, на основании своих личных наблюдений, он добавил: «…Из бесед со многими церковниками и духовенством выяснено, что духовенство, особенно западники, повсеместно активно проводят свою религиозную деятельность среди верующих граждан в церквях и вне церквей и изжиты факты бытового разложения среди них. Усилилось проповедничество и главным образом — священниками-западниками, которые в своих проповедях “об учении Христа” увязывают вопрос о борьбе против войны. С такими и другими проповедями часто выступает священник Гомельской (Полесской) церкви Базилевич Игорь, который смысл проповедей сводит к тому, что “христиане, которые следовали и следуют учению Христа, почитали и почитают храмы божии, получили и получают от бога прощения за свои прегрешения”. Часто Базилевич выступает с призывами к верующим на тему недопущения войны, призывая их усердно молиться богу и просить его, чтобы войны не было.
Такую «борьбу» верующих против войны духовенство использует с целью большего привлечения отсталых людей в церкви. И не случайно в Железнодорожном районе Гомеля, где находится Полесская церковь, появились “святые” письма. В этих письмах какие-то церковники сочинили, что якобы за морями и океанами кто-то слышал голос божий, который призывает всех христиан усердно молиться богу в храмах божьих, чтобы не было войны, и что все верующие христиане должны объединиться под верой божьей и мир будет воцарён на земле. Далее предлагается каждому, кто прочитает письмо, переписать его в 3-й экз. и передать своим знакомым, чтобы и они так поступили…».
О необходимости пристройки вышеуказанной крестилки в архивном делопроизводстве Никольского храма имеются следующие документы. В феврале 1957 года о. Игорь направил архиепископу рапорт, что «…при церкви нет помещения для совершения Таинства крещения, а также нет места для канцелярии и пономарки…, поэтому ныне крещения совершаются в неприспособленном и тесном помещении, где едва могут разместиться две-три пары взрослых с детьми…, и церковный совет посчитал своим долгом получить благословение на ходатайство перед соответствующими государственными органами на пристройку к алтарю крестилки из кирпича размером 6,3×4,3 метра…, согласно сметы стоимостью 21051 рубль». Из епархиальной канцелярии пришёл ответ с благословляющей резолюцией архиерея, но горисполком разрешение на строительство не дал, посчитав, что при церкви имеется «старинная пономарка», которой достаточно для проведения крещений.
В этом же году о. Игорь, по благословению архиепископа, приступил к сооружению иконостаса. Так как на проведение работ требовались значительные средства, он подал ходатайство о переносе квартального епархиального взноса с декабря на март следующего года, на что также было получено благословение. Летом 1958 года священник вновь обратился к Питириму за благословением на ремонт наружной штукатурки, сметная стоимость которого составляла более 27000 руб., однако закончить оштукатуривание о. Игорю не удалось, т. к. разбирательство по устроенному в 1957 году иконостасу для него оказалось далеко неблагополучным.
О псаломщике и регенте Полесской церкви Прохоре Николаевиче Дроздове имеются следующие сведения. Он родился 23 февраля 1903 года, уроженец Калининской области, в 1930-х гг. работал в Доме культуры г. Великие Луки Псковской области и одновременно пел в церковном хоре. В 1938 году его арестовали и приговорили к 3 годам ИТЛ. Во время войны, несмотря на судимость, трудился в ансамбле песни и пляски войск НКВД, комиссовался в 1945 году, поселился в Гомеле и стал псаломщиком Никольского храма. Первоначально проживал с семьёй в самой Никольской церкви, где под квартиру была приспособлена маленькая комнатка в церковном притворе, потом стал проживать в построенном доме около церкви. В 1957 году Дроздов стал управлять церковным хором, оставив должность псаломщика, и незадолго до своей смерти был рукоположен в сан диакона. Скончался 20 марта 1964 года.
Неизвестно, по каким причинам между о. Базилевичем и Дроздовым сложились неприязненные отношения, но, очевидно, что последнего никто не заставлял подробно рассказывать уполномоченному обо всех строительных делах своего настоятеля. Также очевидно, что аналогичные показания им были даны и в правоохранительных органах, ставшие основой расследования по фактам приобретения стройматериалов для церкви.
Расследование выяснило, что по задумке о. Игоря основу нового иконостаса должны были составить липовые доски, и за помощью в поисках такого материала он обратился к знакомому сельскому священнику Артемию Потоцкому, служившему в Старо-Кривской (Довской) церкви. 3 июля 1958 года о. Потоцкий на имя уполномоченного Совета Лобанова написал объяснение: «…Весной 1957 года… Базилевич… попросил меня достать где-нибудь две толстых липы… После этого проводилась телефонная линия через Довск и соседнюю деревню Ямное по автомагистрали в сторону г. Гомеля…, и проводившие двое рабочих эту линию… по моей просьбе… срезали две большие липы, росшие как насаждение деревьев вдоль автомагистрали. За них я уплатил этим рабочим 200 рублей, их привезли распиленными кряжами в г. Гомель к Базилевичу, в Полесскую церковь. За эти липы Базилевич дал мне восемь… икон, которые мы поставили в своей церкви. Эти кряжи Базилевич порезал на тёс и устроил в церкви большой и красивый иконостас…».
Далее, 14 июля этого года из городского исполкома уполномоченному Лобанову пришло сообщение: «…Стало известно, что… Базилевич… систематически допускает злоупотребления… и незаконным путём покупает много строительного материала, похищенного какими-то лицами на государственных стройках или предприятиях. В целях прекращения подобного рода нарушений…, исполком считает дальнейшее пребывание Базилевича в Полесской церкви нежелательным». 17 июля Лобанов снял с регистрации о. Игоря, и в своём отчёте он написал: «…Руководство области дало указание руководству города и прокуратуры создать комиссию по… фактам злоупотреблений Базилевича… Комиссия подтвердила те факты, которые я ранее указывал, и установила новые. Например, Базилевич из похищенного кем-то первосортного пиломатериала (досок) огородил свой большой сад забором высотой в три метра, тогда как на некоторых государственных стройках пиломатериала не хватает…
…Будучи враждебно настроенным элементом, дошёл до такой наглости, что вообще не признавал местной власти, игнорировал мои предупреждения и превратил церковь в нелегальный пункт скупки всякого рода стройматериалов…, похищенных на производстве… какими-то преступными элементами…, толкнул священника… Потоцкого на воровство и уничтожение двух больших лип, которые росли в защитной полосе автомагистрали…
…Против Базилевича теперь пошли многие верующие, которые узнали, что он обманным путём ежемесячно получал от церкви в течение нескольких лет по 1000 руб. якобы за квартиру, тогда как имел собственный дом, купленный им за 90000 руб. из личного дохода, за который не платил подоходный налог государству…
…Базилевича решили не судить во избежание разных кривотолков, которые разные элементы могут использовать в злобных целях, мол, духовенство начали преследовать…»
Проверочные материалы находились в прокуратуре, и обоим священникам за скупку краденого грозило уголовное преследование, а потом суд, по приговору которого можно было лишиться свободы. Но на этот раз повезло. В связи с законом об амнистии, изданного в ноябре 1957 года по случаю 40-летия Октябрьской революции, прокурор города постановил, что за подобного рода преступления, совершённые до издания закона, виновные лица амнистируются и уголовному преследованию не подлежат. Поэтому решение уполномоченного о снятии с регистрации посчитали достаточной мерой наказания для о. Базилевича, а в отношении о. Потоцкого данных не имеется.
14 августа 1958 года архиепископ Питирим своим указом также отстранил о. Игоря от должности настоятеля церкви. В Белоруссии он не остался и служил на разных приходах Орловской епархии. Скончался 7 октября 1978 года, погребён в селе Лепёшкино Орловского района у стен церкви, которая была местом его последнего служения.
5 марта 1951 года на штатную должность 2-го священника при Полесской церкви, в соответствии с указом архиерея № 346, был назначен иерей Николай Антонович Артецкий, 1891 г. р., уроженец города Соколово Седлецкой губернии (ныне на территории Польши), перемещённый из Рубежевичской церкви Столбцовского района. Он окончил в 1908 году Седлецкую гимназию, в 1909-м — 2-ю Варшавскую гимназию, в 1913-м — курс юридических наук в Народном университете им. А. П. Шанявского (г. Москва), с 1914-го обучался в Петроградском университете, в 1916-м призван в армию и направлен в г. Одессу на курсы прапорщиков. Далее находился на Румынском фронте. С 1918-го по 1921 год служил в Красной армии, после демобилизации работал, главным образом, бухгалтером и проживал в разное время в г. Азове Ростовской области и на территории восточной Польши, которая в сентябре 1939 года отошла к СССР. Во время немецкой оккупации находился в г. Вилейка нынешней Минской области, где при местной церкви с 1941-го по 1947-й год «подготавливался к духовному званию». В 1948 году рукоположен в иерейский сан и до назначения в Гомель служил на разных приходах Брестской области. Областной уполномоченный зарегистрировал его 15 марта, выдав справку № 8. При заполнении анкеты в графе «семейное положение» священник указал, что разведён.
Прослужил о. Артемий в Никольской церкви четыре с половиной. года. В ноябре 1955 года он подал прошение об увольнении в заштат, и 27 декабря, в соответствии с указом архиерея № 2296, его исключили из клира Минско-Белорусской епархии с правом перехода в другую епархию. Ревность о Боге привела священника в Троице-Сергиеву лавру, где он принял монашеский постриг с именем Назарий. В 1963 году, будучи в гостях у своих родных в посёлке Радошковичи Молодечненского района неожиданно заболел и скоропостижно скончался.
12 января 1956 года 2-м полесским священником стал Борис Степанович Ненадкевич, 1908 г. р., уроженец деревни Лопатин Пинского района Брестской области. В 1926 году он окончил Пинское училище, прислуживал в местных церквях пономарём, в 1930-1932 гг. был псаломщиком в Калужской епархии, потом возвратился на родину и 21 августа 1936 года рукоположен в сан диакона. Во время немецкой оккупации находился на территории Брестской области, в сан священника был посвящён 29 марта 1942 года и служил на разных приходах Брестской области. До перевода в Гомель находился при Александро-Невском соборе г. Кобрина.
Прослужил о. Борис на новом месте два с половиной года, и 28 сентября 1958 года, согласно прошению, был перемещён к Борисовскому Свято-Воскресенскому собору на должность настоятеля, где скончался 6 августа 1986 года.
Несколько раз к Полесской церкви в 1950-х гг. назначались временные священники, что было связано с отсутствием на службе по разным причинам o. Игоря. Например, в связи с болезнью настоятеля с 3-го февраля 1954 года две недели его пастырские обязанности исполнял заштатный иеромонах Петроний (в миру Порфирий Павлович Богуто), 1908 г.p., украинец, ранее служивший в Кировской церкви Жлобинского района, и по таким же причинам с 5-го по 20-е января 1956 года служил иеромонах Пётр (в миру Пётр Иванович Иванов), 1903 г. р., насельник Жировичского монастыря.
Также к Полесской церкви в 1950-х гг., в отличие от собора, где имелся штатный диакон, неоднократно назначались временные диаконы из числа воспитанников Минской духовной семинарии и братии Жировичского монастыря. Так, к сей церкви со 2-го июня по 1о-е сентября 1951 года был назначен диакон Михаил Буглаков, воспитанник 4-го класса духовной семинарии. Его же вновь направили сюда в январе и апреле этого года — на время Рождественских и Пасхальных каникул, а на летние каникулы диаконом к Полесской церкви прикомандировали воспитанника семинарии Иосифа Шевченко. Далее, с 6-го апреля по 1-е августа 1955 года был прикомандирован иеродиакон Глеб (Легейдо), с 1-го по 16-е мая 1956 года — воспитанник семинарии Владимир Кислюк, и в этом же году, с 21-го июня по 10-е сентября, — воспитанник семинарии Адам Лукашевич.
Временные назначения диаконов продолжались и в последующие годы. На время Рождественских каникул 1957 года, со 2-го по 20-е января, был назначен Евгений Кушнир, на Пасхальные каникулы с 5-го апреля по 1-е мая — Василий Тур, на летние каникулы с 20-го мая по 10-е сентября — Виктор Шантыко. В 1958 году произошло два назначения: со 2-го по 20-е января служил воспитанник семинарии Феодор Харик, с 4-го по 20-е апреля обязанности диакона исполнял Василий Космач.
Во 2-й половине 1950-х гг. уполномоченный Совета продолжал наблюдения за деятельностью духовенства области, контролировать доходность церквей и их посещаемость. […]
11 ноября 1960 года соборный регент Михаил Викентьевич Воробей был перемещён на должность регента при Никольской церкви. Здесь он создал замечательный хор, собрал уникальную нотную библиотеку — партитуры, переписанные от руки, что является огромным и кропотливым трудом. В 1983 году «за усердное служение» награждён орденом св. равноапостольного князя Владимира III степени. После возобновления богослужений в Гомельском соборе вновь очень недолго управлял его хором, а потом вернулся на прежнее место. Скончался 1998 году.
О посещаемости городских церквей, в частности Никольской, в 1955 году уполномоченный, на основании личных наблюдений, в квартальных отчётах записал так: «…В текущем году… на “крещение”… в г. Гомеле — в соборе и Залинейной церкви — церковная служба происходила вечером 18.01. с 19 до 23 часов. Утром было две службы — ранняя и поздняя после обеда, чтобы больше привлечь верующих в церкви. В первую службу народу было полные церкви и коридоры, а около собора к моменту выноса икон и выхода церковнослужителей с церковным хором для “освящения” воды в церковной ограде собралось ещё около 300 верующих. После “освящения” воды, которую накачали в две бочки из артезианского колодца, верующие, как всегда, словно обезумевшие, все кинулись набирать “святую” воду в принесённые бидоны и другую посуду и случилась страшная давка. В результате такой давки в Залинейной церкви двух пожилых женщин сильно помяли, которые спаслись неистовым криком “задушили!”…
…Абсолютное большинство из всех верующих, посетивших собор и Залинейную церковь на “крещение”, были женщины среднего и выше среднего возраста и меньше всего молодёжи и мужчин…, но их было не меньше против прошедшего «крещения» 1954 года…
…Празднование религиоз-ного праздника «пасха» духовенство провело организованно и торжественно…, с многолюдным посещением церквей верующими и паломниками… К тому же пасхальная ночь была тёплой и сухой, а 17-го пошёл небольшой дождик и снег… В Залинейной (Полесской ж.-д.) церкви невместившийся народ (около 200 человек) стояли в ограде, из них половина была молодёжь и школьники… Как и прежде в ограде церкви по обе стороны тротуара, ведущего к воротам, стояли разные больные старухи и мужчины-инвалиды, просившие на распев «пожертвовать копеечку Христа ради». По сравнению с 1954 годом сейчас народу было несколько меньше, но выяснилось, что настоятель церкви Базилевич заранее до «пасхи» объявил верующим, что якобы по просьбе приезжающих из дальних деревень и районов он и его помощник Артецкий будут «освящать» куличи днём в субботу под пасху. И действительно в этот день с 15 до 20 часов они восемь раз «освящали» куличи по мере прибытия верующих из дальних деревень, а всего их было около 300 человек, которые после «освящения» разъехались по домам рабочими поездами, автобусами и попутными автомашинами, не дожидаясь всенощной. Следовательно, если бы эти верующие остались на всенощную, то народу было бы около церкви не меньше, чем в 1954 году.»
После увольнения из Полесской церкви о. Базилевича многие прихожане не раз обращались в епархиальное управление о возвращении их бывшего настоятеля на прежнее место, и архиепископ Питирим ответил, чтобы прихожане обращались со своими просьбами в тот орган — к уполномоченному Совета, который снял священника с регистрации, т. к. в данном случае он решить ничего не может. Далее, указом архиерея № 2022 от 14 августа 1958 года настоятелем к Полесской церкви был назначен протоиерей Алексей Иосифович Корнейчук, перемещённый из Николаевского собора г. Пинска, где состоял на должности 2-го священника. Справку № 73 о регистрации на приходе гомельский уполномоченный выдал ему 2 сентября.
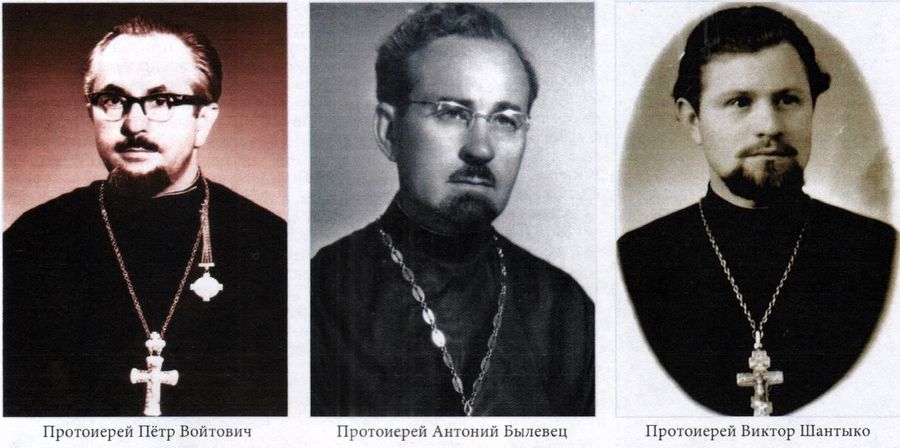
Очень скоро, 28 августа, протоиерей Алексей Иосифович Корнейчук, назначенный настоятелем (перемещён из Николаевского собора г. Пинска), предоставил архиерею письменные сведения о положении дел в полесской общине. В частности, он написал: «…19 августа я вступил в должность при назначенной мне церкви… Знакомясь с приходом и наблюдая пульс приходской жизни, я пришёл к выводу: 1) моральное состояние общины… потрясено внезапным уходом… Игоря Базилевича, пользовавшегося, очевидно не без оснований, заслуженной любовью и авторитетом; 2) вину за уход… Базилевича община в лице активной группы возлагает на регента Дроздова П. Н., якобы он способствовал своей деятельностью настоящему положению. Достаётся и другим…, делая неожиданные умозаключения от случаев, имевших место в прошлом…; 3) существует тенденция к замене всего низшего причта новыми членами, но она слабая и маловыразительная; 4) к новому настоятелю церковный совет и прихожане отнеслись и относятся весьма сдержано, но без всякого проявления недружелюбия, что вполне понятно в связи с их психологическим состоянием после произошедшего…
…В целом, отношение членов ц/совета и части прихожан к Дроздову весьма отрицательное… В субботу, 23 августа, активная группа… из женщин, вооружившись злословием и яростью, с готовностью применить физическую силу, а применение таковой уже было до моего прибытия, не допустила Дроздова не только к исполнению своих обязанностей, но и в церковь. Моё вмешательство с целью внести умиротворение натолкнулось на сильную оппозицию и ни к чему не привело. Тогда я предложил выразить людям своё волеизъявление быть или не быть Дроздову регентом таким образом: кто желает, чтобы он остался регентом — перейти на правую сторону храма, противодействующие — на левую сторону. Результат оказался плачевный! Все перешли на левую сторону, ни один человек не выступил в защиту Дроздова. Последний с сильнейшим смущением и расстройством ушёл домой. Всенощную, которую я служил, пел сборный хор без руководителя. В последующие службы воинствующая группа несла дежурство возле церкви с явной целью — не допустить Дроздова, но последний не появлялся…
…Далее, договориться с Базилевичем о времени приёма-сдачи имущества церкви так и не удалось. Семья всё время утверждает, что о. Игоря нет дома, хотя прихожане говорят, что он всё время дома…
…24 августа во время богослужения собирались подписи за возврат Базилевича на приход, которые намеревались передать уполномоченному Совета… Но мне известно, священник Базилевич признан властями нежелательной персоной…
…В приходе пока мира нет…, но богослужения и требоисправления совершаются своевременно и неопустительно. В богослужебном смысле приход ущерба не терпит… В связи с вышеизложенным прошу указаний на мои дальнейшие действия».
Вряд ли о. Алексей успел получить какие-либо указания из епархиального управления, т. к. в конце сентября ему пришлось возвратить уполномоченному свою регистрационную справку из-за перевода на прежнее место — в Пинский собор. Одновременно из этого же собора на должность 2-го священника к Полесской церкви, в соответствии с указом № 2298, был перемещён священник Пётр Павлович Войтович. Регистрационную справку № 80 он получил 2 октября 1958 года. Отец Пётр родился 5 июля 1929 года, уроженец села Залозки Новогрудского района Гродненской области, сын священника. В 1948 году окончил общеобразовательную школу и поступил в Минскую (Жировичскую) духовную семинарию. В сан диакона рукоположен в июне 1950 года, в сан священника — 1 апреля 1951-го и определён на служение в село Турец Кореличского района Гродненской области. В 1954-1958 гг. — настоятель Свято-Николаевской церкви г. Кричева, а до назначения в Гомель кратковременно находился в Пинске. В 1958 году закончил заочное отделение Ленинградской духовной академии. В Гомеле проживал по ул. Ауэрбаха, 35.
Одновременно с назначением 2-го священника, очередным настоятелем к Полесской церкви, в соответствии с указом № 2293 от 23 сентября 1959 года, был назначен протоиерей Антоний Васильевич Былевец, с возложением на него обязанностей благочинного церквей Речицкого округа и церквей г. Гомеля. Передача новому настоятелю имущества церкви состоялась 18 октября в присутствии протоиерея Василия Копычко (о. Базилевич так и не явился), а регистрационную справку № 95 он получил 13 октября.
Кроме того, его супруга — Былевец Елена Зосимовна (в девичестве Никитюк), 1914 г. р., дочь священника, — также была 28 октября зачислена в штат церкви на псаломщицкую должность, но через полгода, 29 апреля 1960 года, она, согласно прошению, была освобождена от этих обязанностей5.
Об о. Антонии из его личного архивного дела известно следующее. Родился он 30 января 1912 года, уроженец деревни Плянта Камецкого района Брестской области, в 1933 году окончил Брестскую русскую гимназию и с 17 декабря 1934 года стал псаломщиком при церкви села Черск Брестского района. В сан диакона рукоположен 29 мая 1938 года, в иерея — 2 июня в г. Пинске, предварительно выдержав экзамен в Полесской духовной семинарии, и стал настоятелем при церкви села Харсы Брестского района. Однако по каким-то причинам, несмотря на священнический сан, с декабря 1938 года и по март 1940-го ему довелось служить на диаконской вакансии при Давид-Городецкой церкви Столинского района, после чего получил назначение быть настоятелем при Белосельской церкви ныне не существующего Гайновского района Брестской области. С началом немецкой оккупации это село вместе с жителями было выселено войсками СС за пределы района, и далее ему довелось служить на разных приходах Малоритского и Каменецкого районов. С 29 июня 1954 года — настоятель Петриковской церкви Гомельской области, с 31 августа 1957-го и до перемещения в Гомель — настоятель Борисовского собора и благочинный Борисовского округа Минской области. Из церковных наград имел набедренник (1942 г.), скуфью (1944 г.), камилавку (1947 г.) и наперсный крест (1952 г.). В 1957 году окончил заочное отделение Ленинградской духовной академии, в 1958-м возведён в сан протоиерея. В Гомеле о. Антоний поселился в церковном доме по ул. Д. Бедного, 12…
18 марта 1959 года состоялись перевыборы церковного совета. На должность старосты был избран Тимошенко Иван Маркович, 1885 г. р., прож. ул. Рощинская, 11; помощника старосты — Горбачёв Иосиф Иванович, 1884 г. р., прож. ул. Ярославская, 82; казначея — Кононов Николай Еремеевич, 1928 г. р., проживающий в здании церкви и исполняющий обязанности истопника; председателя ревизионной комиссии — Борсуков Степан Денисович, 1888 г. р., прож. ул. Сталина, 158. Также были избраны новые члены ревизионной комиссии — Жилинская Иустина Георгиевна, 1897 г. р., прож. ул. Путевая, 11, и Борисов Ефим Васильевич, 1877 г. р., прож. ул. Воровского, 92.
В мае этого же года о. Былевец обратился к архиерею за благословением на очередной ремонт церкви: необходимо было произвести перетирку внешней штукатурки для последующей побелки всего здания.
Стоимость работ оценивалась в 12000 рублей. Благословение было получено, не поступило возражений на проведение ремонта и со стороны уполномоченного Совета.
Как и прежде, в 1958 году уполномоченный особо обращал своё внимание на посещаемость церквей в дни значимых религиозных праздников. О Никольской церкви он отметил кратко: «…На пасхальную службу во время всенощной церковь была полностью заполнена, и в церковной ограде находилось примерно 300 человек, и среди них было много молодёжи, которые сказали, что пришли на церковную службу посмотреть…. Характерно, когда молодёжь стала с вечера приходить к этой церкви…, то две пожилые женщины, которые стояли в тамбуре церковном для наведения порядка, настойчиво приглашали юношей и школьников, чтобы они не стеснялись заходить в церковь. И многие юноши и дети заходили в церковь и скоро выходили обратно, которым вышеуказанные женщины говорили снимать шапки. Однако верующих здесь было не больше, чем в 1957 году…, главным образом — пожилые и престарелые лица…».
14 марта 1960 года состоялось общее собрание полесского церковного актива, на котором, как и на собрании соборного актива, обсуждались вопросы поднятия заработной платы церковному причту и выдачи ему ссуды на погашения дополнительных налогов. Собрание постановило установить с 1 января 1960 года настоятелю и 2-му священнику заработную плату в размере 2000 руб. в месяц, псаломщику — 1000 руб. в месяц, а также выдать ссуду на покрытие задолженности по налогам священникам по 5000 руб. каждому и псаломщику — 2000 руб., срок погашения которой они должны производить равными частями до 31 декабря текущего года.
В июне этого года состоялась опись церковного имущества, в результате которой было учтено более 300 наименований различных предметов, среди которых имелись серебряный напрестольные кресты (большой и малый), несколько икон в серебряных ризах и серебряно-позолоченной евхаристический прибор. При этом была составлена общая характеристика церкви: кирпичная, крестообразная на каменном (бутовом) фундаменте, покрыта жестью, с двумя куполами, в одной связи с колокольней с пирамидообразным куполом, снаружи побелена известью, обнесена сплошным дощатым забором, возведённом в 1960 году, приспособлена к водяному отоплению, имеет подвал-котельную, внутри росписи-картины из евангельской истории и иконы святых. На церковном погосте находился жилой дом размером 6х6 метров, деревянный, на каменном фундаменте, покрытый жестью, при нем имелся небольшой дощатый сарай, рядом располагалось складское дощатое помещение для хранения дров и прочего инвентаря.
В связи с закрытием собора Полесская церковь на долгое время стала единственным православным храмом в городе. В ноябре 1960 года при ней были открыты должности 3-го и 4-го священников и одна должность диакона. Указом архиерея от 10 ноября протоиерей Былевец был перемещён на должность 2-го священника, с оставлением на должности благочинного Речицкого округа, а её настоятелем стал протоирей Копычко, с оставлением на должности благочинного Гомельского округа. Передача имущества новому настоятелю состоялась 21 ноября, и в церковной кассе в это время в наличии оказалось 15452 руб., на текущем счету — 7283 рубля.
В итоге, после всех внутренних перемещений и назначений к церкви бывшего соборного духовенства, полесский причт к 31 декабря 1960 года имел следующий состав:
— настоятель — протоиерей Василий Копычко;
— 2-й священник — протоиерей Антоний Былевец;
— 3-й священник — иерей Пётр Войтович;
— 4-й-священник — иерей Стефан Гладыщук; — диакон — Феодор Харик;
— псаломщик — Михаил Воробей.
Священникам с 1 января 1961 года был установлен оклад по 200 руб. каждому, диакону — 135 руб. и псаломщику — 100 руб. в месяц.
Из автобиографических данных диакона Феодора Дмитриевича Харика известно, что родился он 6 августа 1937 года, уроженец деревни Кобёлка Брестского района, окончил 7-летнюю сельскую школу, потом обучался в Минской духовной семинарии, где был рукоположен в сан диакона. 31 января 1958 года назначен к Петро-Павловскому собору, 10 ноября 1960 года перемещён в Никольский храм. Проживал в доме № 32 по ул. Пролетарской. 14 октября 1977 года его рукоположили в сан иерея и назначили к сей церкви 3-м священником2. Был награждён в 1978 году наперсным крестом и 6 апреля 1980 года возведён в сан протоиерея.
Отцу Стефану Гладыщуку, помимо служения в Гомеле, часто приходилось временно исполнять должность настоятеля на разных сельских приходах. В ноябре 1960 года он на две недели был прикомандирован к Старо-Белицкой церкви Гомельского района, а в 1961 году дважды направлялся на разные приходы Добрушского района. Такая же практика командировок сохранилась и в последующие годы. Церковное руководство наградило его камилавкой (1959 г.), наперсным крестом (1962 г.), палицей (1970 г.), правом ношения наперсного креста с украшениями (1975 г.) и 14 апреля 1965 года возвело в сан протоиерея. Обучался на заочном отделении Московской духовной академии, которое окончил в 1976 году.
Весной 1980 года о. Гладыщук, по определению Священного Синода РПЦ от 13 мая, убыл в Среднеевропейский экзархат, где был назначен настоятелем к церквям святого Симеона Дивногорца в г. Дрездене и святой равноапостольной Марии Магдалины в г. Веймар, ГДР. Миссионерское служение за границей продлилось четыре года, и с 1 октября 1984 года он вновь служит при Полесской церкви, которую возвели в статус собора. 20 января 1986 года назначен соборным ключарём, 1 января 1990 года освобождён от этой должности и назначен настоятелем при Николаевском (Полесском) соборе.
Через семь лет дальнейшее служение о. Стефана стало происходить в других церквях. 30 декабря 1997 года его переместили к Петро-Павловскому собору, 30 ноября 1998-го был перемещён на должность 2-го священника при новооткрытом городском храме в честь святого великомученика Георгия Победоносца. С января 1998 года и по май 2016-го исполнял должность благочинного церквей Гомельского городского округа. За «усердное и полезное служение Церкви Божией» вновь неоднократно поощрялся различными церковными наградами: митрой (1984 г.), правом служения литургии с открытыми Царскими вратами до «Отче наш» (1992 г.), орденами преподобного Сергия Радонежского ІІІ-IV ст. (1981 г.) и И-й ст. (2017 г.), святого равноапостольного князя Владимира III-й ст. (1983 г.) и И-й ст. (1989 г.), преподобного Сергия Радонежского II ст. (2002 г.), святителя Кирилла Туровского II ст. (2007 г.) и другими. Отошел ко Господу 5 сентября 2020 года.
Практически весь 1961 год оказался погружён в разбирательство жалоб полесских прихожан в отношении назначенных из собора священников Копычко и Гладыщука, диакона Харика и псаломщика Воробья. Суть жалоб, удостоверенных многочисленными подписями, заключалась в том, что пришлый соборный причт состоит из «пьяниц, грубиянов и безобразников», которые притесняют коренных священников — Былевца и Войтовича, однако никаких конкретных фактов недостойного поведения их указано не было, все обвинения носили поверхностный характер. Кроме того, делегации прихожан дважды ездили в Минск на личный приём к архиерею, добиваясь устранения неугодных им священников, а некоторые прихожане, в знак протеста, стали посещать богослужения в старообрядческой Ильинской церкви. Сам о. Копычко 16 февраля подал прошение временно управляющему Минской епархией епископу Бобруйскому Леонтию с просьбой перевести его на должность настоятеля Минского кафедрального собора, но оно осталось без рассмотрения. Дальнейшая ситуация усугублялась тем, что в течение года на Минско-Белорусской кафедре сменилось два архиерея, и вникнуть в конфликт они, естественно, не могли. К тому же о. Копычко во время богослужения пролил Святые Дары, чем дал повод к написанию очередных жалоб. Митрополит Антоний (Кротевич), пробывший на кафедре немногим более трёх месяцев и принявший делегатов-жалобщиков, 8 июня издал указ о переводе о. Василия на должность настоятеля к Борисо-Глебской церкви г. Могилёва, однако указ исполнен не был, т. к. на кафедру был назначен новый архиерей -Варлаам (Борисевич).
29 июля протоиерей, невзирая на то, что ранее был сам готов перевестись на минский приход, подал прошение об оставлении его при Полесской церкви по следующим основаниям: «…Перемещение поставило меня в весьма затруднительное и неудобное положение, а посему осуществить его я не могу… В текущем году моя дочь перешла в 10-й класс, она проходит практику на трикотажной фабрике “8-е Марта”, по окончании которой получает установленный разряд, а окончание школы даёт ей возможность поступить в ВУЗ, а посему переезд её на новое место невозможен. Не позволяет мне менять место жительства и здоровье моей жены, которая страдает гипертонией, ревматизмом и хронической болезнью сердца. Здесь, в Гомеле, проживают на отдельных квартирах и работают мой сын и воспитанник-племянник с жёнами, которые при всяких недомогательствах матери оказывают ей надлежащую помощь и заботу… …Осмелюсь донести, что я не мало потрудился в благо-строении приходской жизни в Гомеле…, до моего назначения члены причта жили на снимаемых частных квартирах… Моими заботами в 1958 году был приобретён 2-квартирный дом, к которому в прошлом году я пристроил третью квартиру для себя…, а также много стараний и усердия проявлено в религиозно-нравственном воспитании прихожан… Правда, после закрытия собора, настоятелем которого я состоял, и после объединения приходов на мою долю выпало немало хлопот, но встречаются некоторые лица, которые хотят возложить на меня часть вины во всём случившемся. Но таких лиц не много и они не авторитетны. Основная масса верующих положительна и ко мне расположена благосклонно. Солидарны со мной все члены причта и церковный совет. Посему нет внешних причин, побуждающих меня менять место жительства и службы… Смиреннейше прошу оставить меня на прежнем месте в г. Гомеле».
2 августа своей резолюцией архиерей оставил о. Василия на прежнем месте.
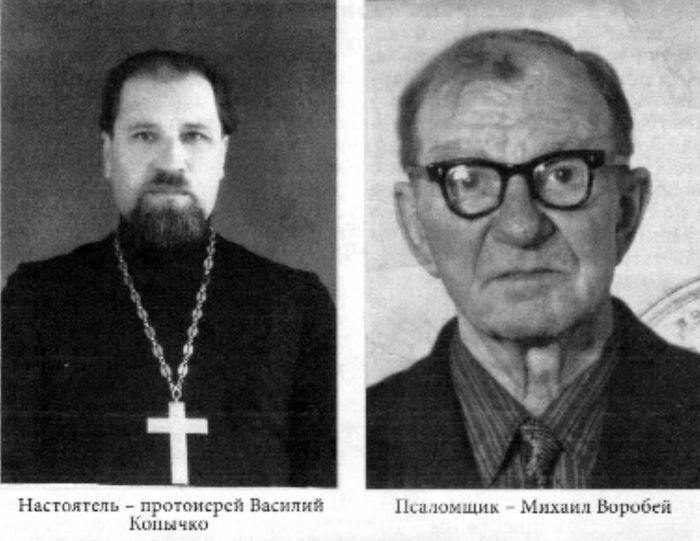
Но буквально через три-четыре дня после резолюции архиерея протоиерею срочно пришлось выехать в Минск на покаяние к духовнику. 20 июля, во время причастия от непроизвольного удара женщины по чаше со Святыми Дарами, несколько капель Даров пролились на одеяния диакона и священника, а также упали на половик. Устраняя святотатство, были сожжены подрясник диакона и половик, выскоблен пол и одеяние священника промыто в речной проточной воде. Кроме того, священник за свою неосмотрительность был обязан принести покаяние, иначе он не мог более совершать литургию и причащать верующих. Налагалась ли епитимия на о. Василия, данных не имеется.
Скорее всего, о. Копычко, будучи в Минске у духовника, имел встречу и с владыкой Варлаамом и лично разъяснил ему некоторые особенности конфликта в приходе. Очевидно, что архиепископ положительно воспринял доводы протоиерея и по собственному усмотрению предпринял некоторые меры для устранения конфликта. Однако эти меры фактически коснулись только о. Антония, при этом не самым лучшим образом для него. 12 августа 1961 года был упразднён Речицкий благочинный округ и присоединён к Гомельскому, и 17 августа о. Былевца переместили к Борисо-Глебской церкви, в которую отказался переводиться о. Копычко. Оказалось, кого пытались защитить прихожане — тот был устранён от прихода, а на кого писали жалобы и на личном приёме убеждали архиерея устранить от прихода — тот оказался на вершине церковной власти в Гомеле и некоторой части Гомельской области. Естественно, вновь появились жалобы на решение архиерея и ходатайства с требованиями возвратить о. Былевца на прежнее место, но они остались без ответа.
[…] При Полесской церкви после перемещёния о. Былевца осталось три священника: Копычко, Войтович и Гладыщук, а вакантная четвёртая должность сократилась. В этом же 1961 году немало неприятных минут пришлось пережить о. Войтовичу, когда ему пришлось давать объяснения уполномоченному Совета и в правоохранительных органах. Поводом для разбирательства со священником послужил один случай, произошедший в 1957 году в Кричевской церкви, в которой он служил и дал рекомендацию одному из своих прихожан на поступление в Минскую духовную семинарию. В своей автобиографии кандидат написал, что во время немецкой оккупации был в партизанах, но после поступления в семинарию оказалось, что он служил полицаем. Отец Пётр пояснил, что кандидат усердно посещал церковь, повенчался с женой по церковному обряду и с целью сбора характеризующих данных предварительно разговаривал с его односельчанами, которые умолчали об этом факте, а сам он даже не предполагал, что бывший полицай мог открыто и безнаказанно проживать в своей деревне. В заключение священник пообещал больше никому не выдавать рекомендаций для поступления в духовные учебные учреждения.
По данным на 19 сентября 1961 года в состав полесского церковного совета входили: Василевский Василий Кузьмич (староста), Тимошенко Иван Маркович (помощник старосты) и Косьянюк Илья Иосифович (казначей). Совет произвёл опись имущества церкви, которого, с учётом поступившего из собора, было учтено более 650 наименований. В это же время были установлены ежемесячные должностные оклады духовенству и низшему причту: священникам — по 200 руб., диакону — 135 руб., псаломщику — 100 руб. и дополнительно за регенство — 50 руб., старосте — 60 руб., бухгалтеру — 50 руб., просфорне — 30 руб., уборщице — 40 руб., истопнику — 45 руб., хористам — от 15 до 20 рублей.
После перемещения о. Войтовича на другой приход, штат священников при Полесской церкви состоял из двух священников: настоятеля Копычко и 2-го священника Гладыщука, а 3-ю должность временно упразднили. В своём отчёте за 1963 год уполномоченный кратко упомянул, что эти два священника иногда в конце службы произносят проповеди, разъясняя верующим значение того или иного религиозного праздника и призывая их к пожертвованию в Фонд мира.
[…] Осенью 1964 года в деревне Головинцы Гомельского района была закрыта церковь, и 6 декабря указом архиерея № 183 её бывший приход был присоединён к городскому Полесскому.За время служения при Никольской церкви о. Копычко «за усердно-ревностное служение Церкви Христовой» не раз удостаивался различных церковных наград: Патриаршей грамоты (1962 г.), митры (1964 г.), права служения литургии при открытых Царских вратах до Херувимской (1972 г.), ордена св. князя Владимира 3-й степени (1980 г.), права ношения голубого Патриаршего креста (1984 г.). Незадолго до кончины ему была вручена государственная награда — орден Отечественной войны 2-й степени. Кроме того, за активную миротворческую деятельность он получил благодарность от Комитета защиты мира, а Фонд мира наградил его почётной серебряной медалью. В 1979 году в личное дело о. Василия была помещена следующая характеристика: «…Пастырь с большим духовным и жизненным опытом. Толково и разумно решает вопросы церковно-приходской жизни, своевременно и оперативно предпринимает необходимые меры для разрешения возникающих вопросов в областном масштабе как секретарь Митрополита по Гомельской области. Благодаря его заботам нет проблем с кадрами…, все приходы укомплектованы священно- и церковнослужителями. По характеру очень мирный и спокойный человек, хороший семьянин, со всеми дружелюбен. Пользуется высоким уважением в приходе и Гомельской области».
Более 50-ти лет протоиерей совершал священническое служение, из них 27 лет в Гомеле. Скончался он от сердечного приступа на 81-м году жизни — 20 октября 1985 года. На похороны почившего прибыли митрополит Минский и Белорусский Филарет (Вахромеев), архимандрит Жировичского монастыря Константин (Хомич) и многочисленное духовенство области и республики. Отпевание происходило в Никольском храме, и, после обнесения гроба вокруг церкви, тело было предано земле на городском кладбище рядом с могилами его матушки и сына. Проводить батюшку собрался весь православный Гомель: по воспоминаниям очевидцев людей было больше, чем на Пасху. Наверное, в этом можно увидеть народную оценку его пастырской деятельности.
24 февраля 1966 года 3-м священником к Полесской церкви, в соответствии с указом архиерея № 19, был назначен иерей Виктор Николаевич Шантыко, проходивший в ней летом 1957 года практику диакона во время обучения на 3-м курсе духовной семинарии. Регистрационную справку по месту нового назначения уполномоченный Совета выдал ему 9 марта.
Отец Виктор родился 15 марта 1935 года, уроженец местечка Селец Берёзовского района Брестской области, сын крестьянина, шестой ребёнок в семье. Его родители с ранних лет приучили своих детей посещать местную Свято-Успенскую церковь, в которой старшие братья попеременно исполняли обязанности пономаря. Во время немецкой оккупации вся семья занималась земледелием, осенью 1944 года отца призвали на фронт, который в 1945 году вернулся инвалидом по ранению. После окончания 7-летней сельской школы Виктор поступил в духовную семинарию, но в 1954 году пришлось сделать перерыв в обучении, т. к. со 2-го класса его призвали в армию. Демобилизовался в августе 1956-го и вновь продолжил семинарское обучение. 20 января повенчался с девицей Ольгой Ивановной Зданович, 1939 г. р., жительницей местечка Селец, 7 апреля с. г. рукоположен в сан диакона и 8 декабря — в иерея в кафедральном соборе г. Минска. С мая по сентябрь 1958 года был настоятелем при Городокской церкви Слуцкого района, в апреле 1959 года получил свидетельство об окончании семинарии и 16 мая с. г. был назначен настоятелем к Свято-Покровскому м/дому г. Хойники. […]
Умер о. Виктор 18 января 1976 года.
25 апреля 1969 года состоялось срочное заседание церковной двадцатки, на котором возникла необходимость рассмотреть два вопроса: 1) выборы помощника старосты; 2) об удалении нищих из ограды. Путём открытого голосования по первому вопросу помощником старосты был избран Горелик Василий Данилович, прож. ул. Барыкина, д. 127а, кв. 43, а резолюция по второму вопросу была очень краткой и неопределённой: «Вести борьбу с нищими до полного уничтожения с паперти», т. е. каким образом это должно было происходить — непонятно, наверное, путём уговоров.
Скорее всего, уговоры не подействовали, и вновь к рассмотрению этого вопроса верующие вернулись 16 апреля 1970 года. На этот раз церковный совет «за нелегальную торговлю вокруг церкви в дни значимых религиозных праздников и наличие попрошаек на паперти» получил предупреждение от уполномоченного Совета, который в случае повторения подобных нарушений намеревался лишить регистрации весь церковный актив. На этот раз собрание постановило: «В связи с ненормальным положением вокруг церкви: распродажа вербы, свечей и т. п., и нахождением нищих в ограде церкви…, принять все меры для устранения ненормальностей и просить содействия милиции к привлечению к ответственности тех лиц, которые получают пенсию, а тех, которые не получают никакого пособия — отвести в дом престарелых». Наверное, на этот раз полесские прихожане справились со своей задачей и нареканий со стороны уполномоченного по этому поводу больше не поступало, однако в это же время последнее предупреждение от него получил церковный староста Василевский Василий Кузьмич — «за допуск к церковной кассе посторонних лиц».
По состоянию на 1970-1971 гг. в церковный хор, в основном, входили следующие лица: Быховец Андрей Иванович, Воробей Мария Фёдоровна, Нетылькина Ульяна Ивановна, Войтекунас Просковья Лаврентьевна, Грапова Елена Ефимовна, Демидова Матрона Романовна, Жилинская Иустиния Георгиевна, Кабашникова Мария Николаевна, Касарчук Зоя Васильевна, Мельников Сергей Антонович, Самойлова Мария Савельевна, Царик Галина Фёдоровна, Листопадова Татьяна Тихоновна и другие. Всего в разные периоды певчих было от 15-ти до 23-х человек и разделялись на два клироса — левый и правый.
5 февраля 1975 года для исполнения обязанностей псаломщика левого клироса в Полесскую церковь был командирован Василий Григорьевич Кухоренко, 1950 г. р., уроженец г. п. Буда-Кошелёво, окончивший 2 класса Московской духовной семинарии (г. Загорск) и по состоянию здоровья вынужденный временно прекратить обучение. Ранее он окончил Буда-Кошелёвский техникум механизации и работал электриком в г. Глуске Могилёвской области, в 1969-1971 гг. служил в армии, после демобилизации сначала работал электриком в объединении «Электросеть» г.п. Буда-Кошелёво, потом на Гомельском винзаводе. В семинарию поступил в 1973 году. В Гомеле проживал по ул. Ключевая, д. 38а, кв. 74.
После смерти о. Шантыко к Полесской церкви 21 января 1976 года, согласно прошению, был перемещён священник Носовичской церкви Пётр Захарович Повный, 1935 г. р., уроженец села Заспа Речицкого района, окончивший в 1958 году Московскую духовную семинарию. После рукоположения в сан священника его назначили к Свято-Преображенскому м/ дому села Селец Брагинского района, потом переместили к Головинской церкви Гомельского района, после закрытия которой с 16 августа 1962 года он стал настоятелем при Даниловичской церкви Ветковского района. Далее, с 1964-го по 1976 год, служил на разных приходах Гомельской области. В Гомеле проживал по ул. Куйбышева, 52.
На месте нового назначения o. Пётр прослужил недолго: в октябре 1977 года был перемещён к Ерёминской церкви Гомельского района, потом некоторое время служил при соседней Старо-Белицкой, а 6 мая 1980 года его повторно возвратили к Полесской на место убывшего о. Стефана Гладыщука. Дальнейшие служебные перемещения священника, если не принимать во внимание его кратковременное назначение в 1989 году к Столбцовской церкви Минской области, больше напоминают замкнутый треугольник: 21 мая 1981 года во второй раз назначен к Ерёминской церкви, в 1989 году из Столбцов в третий раз перемещён к Полесской, а в 1993 году назначен восстанавливать вновь открытую Головинскую церковь, где был последним настоятелем до её закрытия в начале 1960-х годов. За заслуги по духовному ведомству епархиальное руководство не раз поощряло священника различными церковными наградами, а также возвело в сан протоиерея.
В ночь с 6-го на 7-е августа 1994 года двое преступников забрались в гомельский дом о. Петра через открытую форточку. Рассчитывали, что священник хранит дома большие деньги. Бандиты брызнули хозяевам в глаза газом из баллончика и начали избивать их, требуя признаться, где спрятаны доллары. Ничего не узнав, хозяев завернули в ковры, связали и, наконец, ушли, прихватив с собой семь икон. Отцу Петру после побоев удалось выжить, а 63-летняя матушка Мария погибла в ковре от удушья. Оставшись вдовцом, протоиерей решил остаток своей жизни провести в монастыре. Его намерение поддержал митрополит Филарет, пострижение о. Петра в монашество, с наречением в честь преподобного Феодосия Черниговского, состоялось в 1995 году. В 1996 году он стал духовником братии Жировичского монастыря и в сане архимандрита скончался в 2017 году.
После смерти о. Копычко настоятелем к Полесской церкви в 1985 году был назначен протоиерей Пётр Латушко, 1930 г.p., уроженец деревни Слобода Минского района, сын крестьянина.
В 1947 году он поступил в Минскую духовную семинарию, по окончании которой в 1951 году был рукоположен в сан священника и назначен в г. п. Лоев Гомельской области. В 1961 году перемещён в Речицу, в 1980-1981 гг. — настоятель при Шкловской Преображенской церкви Могилёвской области. В 1981 году удостоился чести стать настоятелем храма в честь Всех Святых, в земле Российской просиявших, расположенного в г. Пайн Буш (около Нью-Йорка), США. Возвратился на родину летом 1985 года, был назначен в Гомель с одновременным возложением обязанностей благочинного Гомельского округа.
Но быть гомельским настоятелем о. Петру довелось всего лишь полтора года: в марте 1987 года ему во второй довелось быть назначенным в Речицу — к Покровской церкви. На всех местах своего служения он проявил себя как ревностный пастырь, а во время нахождения в Речице с его личным участием и материальной поддержкой было построено и отремонтировано большое количество церквей Речицкого района и некоторые в области. За счёт пожертвований прихода построились храмы в сёлах Озерщина, Козье, Короватичи и Ровенская Слобода, произведены ремонты культовых зданий в Заспе, Бабичах, Бронном, Холмече, Новом Барсуке, в городах Лоеве и Светлогорске и посёлке Паричи Светлогорского района. Также много усилий и трудов было потрачено на возрождение Речицкого Свято-Успенского собора. «Вера и служение Церкви и Богу — единственное, что меня радует и вдохновляет. Если что-то где-то делается для храма и для Церкви — это жизнь, это спасение. И если бы я по какой-то причине не мог бы служить священником, я был бы самым несчастным человеком», — говорил о. Пётр. В вере и благочестии он воспитал своих детей: четверо его сыновей пошли по стопам отца и стали священнослужителями.
[…] 21 февраля 2014 года о. Пётр скончался. Его отпевание состоялось 23 февраля в Минском Петро-Павловском соборе.14 декабря 1981 года в сан иерея был рукоположен диакон Полесской церкви Георгий Васильевич Тур, который остался при сей церкви на должности 3-го священника. Он родился в 1957 году в деревне Переход Речицкого района, окончил местную школу и Костромской архитектурно-строительный техникум, в 1976-1978 гг. служил в армии. После демобилизации работал мастером строительной организации г. Мозыря, где в это же время настоятелем здешнего собора состоял его отец — протоиерей Василий Тур. В 1979 году будущий священник поступил в Московскую семинарию, в сан диакона был рукоположен 2 июня 1981 года.
Через год для о. Георгия исполнение священнических обязанностей едва не закончилось снятием с регистрации. 20 ноября 1982 года он проводил крещение четырёх младенцев, и по правилам в регистрационную книгу должен был внести паспортные данные родителей. Эта книга в последующем проверялась соответствующими органами, и если в ней оказывались партийные или находящихся на государственной работе лица, то им за совершение церковного обряда грозили большие неприятности, вплоть до увольнения с работы и исключения из партии. Естественно, приходилось договариваться со священником, чтобы крещения совершались без документов и регистрации, и в этот день проверяющие обнаружили, что из четырёх семейных пар зарегистрирована только одна. Старший инспектор уполномоченного Совета по БССР Шеметов и областной уполномоченный Затора по этому поводу составили акт. 21 ноября за нарушение законодательства о религиозных культах о. Георгий был снят с регистрации, но потом данный вопрос разрешился благополучно: через четыре дня республиканский инспектор уехал в Минск, и Затора, поддавшись уговорам, снятие с регистрации заменил на последнее предупреждение.
В 1990 году о. Тур был перемещён к Петро-Павловскому собору, а ныне он (май 2021 г.) является настоятелем храма Иверской иконы Божией Матери г. Гомеля и исполняет обязанности председателя отдела по архитектуре и строительству Гомельской епархии.
По данным 1982 года причт Полесской церкви состоял из следующих лиц:
— протоиерей Василий Копычко — настоятель;
— протоиерей Феодор Харик — клирик;
— иерей Евгений Кононов — клирик;
— иерей Георгий Тур — клирик;
— диакон Геннадий Дзичковский.
После перевода о. Латушко в Речицу, очередным настоятелем к Полесскому храму 2 марта 1987 года был назначен его клирик — о. Феодор Харик. В конце 1989 года его назначили настоятелем к Петро-Павловскому собору, но через год возвратили к прежнему месту служения, а 18 июля 1997 года вновь определили служить при соборе. Скончался 6 июня 2008 года. Верующие гомельчане тогда говорили, что умер самый добрый батюшка Гомельской епархии.
Диакон Георгий Геннадьевич Дзичковский, 1959 г. р., сын священника, был назначен к Полесской церкви в декабре 1981 года и прослужил здесь восемь лет. Он имел музыкальное образование, в сан диакона был рукоположен в 1981 году и служил в Витебске. Его жене-студентке тогда сказали: «Девочка, забирай документы или выгоним из института с позором. Нам тут дьяконши не нужны!», поэтому ему с семьёй пришлось переехать в Гомель.
15 февраля 1990 года о. Георгий рукоположен в сан священника и назначен клириком к Гомельскому Петро-Павловскому собору. Потом он служил на разных сельских приходах Гомельского района, а потом переехал в г. Минск и стал клириком здешнего Петро-Павловского собора. В 2003 году окончил Минскую духовную академию со степенью кандидата богословия, и ныне (май 2021 г.) исполняет должность помощника благочинного 1-го Минского городского округа.
В ноябре 1986 года клириком к Полесской церкви был назначен протоиерей Даниил Иванович Одинокий, 1928 г. р., уроженец села Ремель Столинского района Брестской области. Он окончил 7 классов сельской школы, в 1947 году поступил в Минскую духовную семинарию, в которой проучился всего лишь один год и вынужден был уволиться по болезни. По мере своих возможностей исполнял псаломщицкие обязанности, и в 1956 году правящий архиерей Минско-Белорусской епархии посчитал его годным к более ответственному церковному служению и рукоположил в сан диакона, в 1957 году — в иерея, и первым местом настоятельского служения молодого священника стала Вуйвичская церковь Пинского района. […] до своего назначения в Гомель 14 лет был настоятелем при Буда-Кошелёвском доме. Своё образование священник завершил в 1968 году на заочном отделении Московской духовной семинарии. Из церковных наград имел набедренник, скуфью и крест с украшениями, а также был возведён в сан протоиерея.
В 1993 году о. Даниил подал прошение на перемещение его к Дивинской церкви, где служил 20 лет тому назад, и митрополит Минский Филарет (Вахромеев) это прошение удовлетворил.
Следует отметить, что в начале 1980-х гг. указом архиерея Никольскую церковь возвели в статус собора. 1 января 1983 года к новообразованному собору на должность псаломщика временно был назначен Феодор Петрович Повный, 1959 г. р., уроженец села Селец Брагинского района, сын священника. Он окончил Театрально-художественный институт в 1981 году по специальности «художник интерьера», но после службы в армии решил пойти по стопам отца. Поступил в Московскую семинарию, после её окончания своё образование продолжил в духовной академии, в сан священника был рукоположен 18 июня 1986 года. Ныне о. Феодор (май 2021 г.) -настоятель храма Всех Святых в г. Минске.
28 января 1987 года псаломщиком к Полесской церкви временно назначили Павла Петровича Повного, 1966 г. р., уроженца г. п. Лоев, сына священника. В дальнейшем он 17 января 1999 года был рукоположен в сан диакона, ныне (май 2021 г.) — протодиакон храма Всех Святых в г. Минске.
В начале 1988 года клириком к Никольской церкви (собору) был назначен иерей Вячеслав Михайлович Мандрик, сын священника. Но прослужил он здесь немногим более года: 5 марта 1989 года его переместили к Ерёминской церкви, а с мая 1990 года стал клириком Брестско-Кобринской епархии.
20 июля 1990 года определением Священного Синода РПЦ в границах Гомельской области была возрождена Гомельская епархия. Правящим архиереем назначили епископа Аристарха (Станкевича) с первоначальным титулом «епископ Гомельский и Мозырский», а с 17 июля 1992 года, после образования Туровской епархии, он стал именоваться «епископом Гомельским и Жлобинским». С возрождением кафедры началась новая история городских храмов.
Сергей Цыкунов, протоиерей Игорь Ольшанов
Правило веры, 2022 – 22 мая (№21); 29 мая (№22); 5 июня (№23); 12 июня (№24); 19 июня (№25); 26 июня (№26); 3 июля (№27); 10 июля (№28); 17 июля (№29); 24 июля (№30); 31 июля (№31); 7 августа (№32); 14 августа (№33-34); 4 сентября (№35-36); 11 сентября (№37); 18 сентября (№38); 25 сентября (№39); 2 октября (№40).