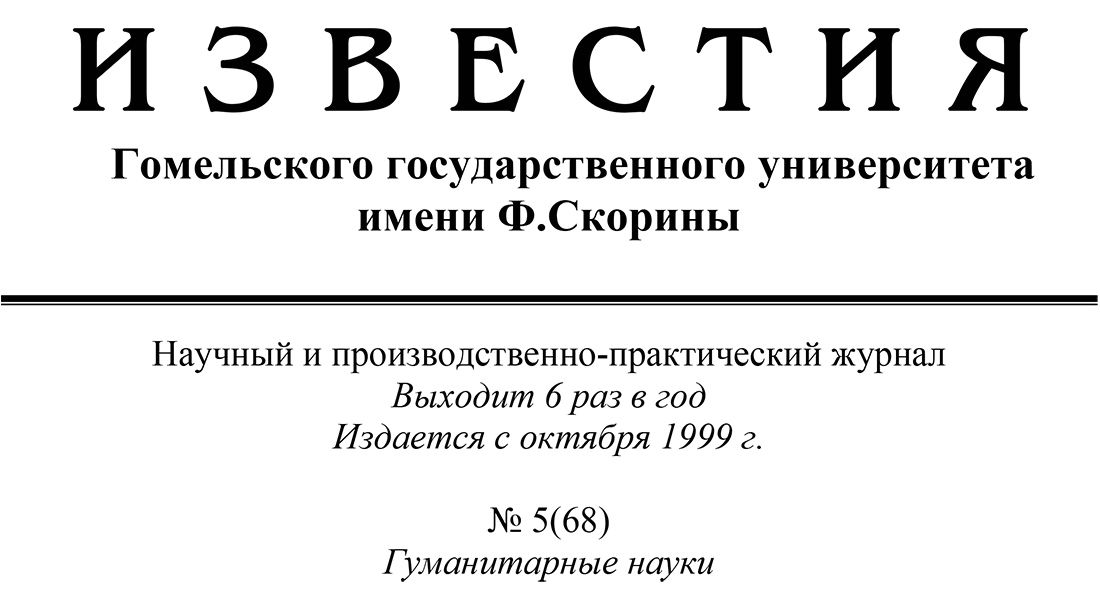В этой статье рассматривается история Гомеля после возвращения его в структуру Великого княжества Литовского. Автор сделал выводы, что интеграция Гомельской земли в состав Великого княжества представляла сложный процесс. Действия короля по упрощению налоговой нагрузки, защита от произвола на местах, с соблюдением прав собственности и, конечно же, обеспечение военной защиты населения способствовали постепенному укреплению власти Великого княжества Литовского в Гомельской земле.
Гомель был отвоёван войсками ВКЛ во главе с гетманом Юрием Николаевичем Радзивиллом 16 июля 1535 года во время так называемой Стародубской войны (1534-1537 гг.) [7, С. 225; 8, С. 68; 19, с. 131; 23, C. 143]. Возвращение города со всеми волостями в состав ВКЛ было официально утверждено Московско-литовском договором о пятилетнем перемирии 18 февраля 1537 г. [26, № 164, р. 210-213]. Условия договора о перемирии имели временный характер, и вопрос о принадлежности Гомеля поднимался ещё неоднократно до середины XVI в. в процессе Московско-литовских переговоров [16, № 9, С. 155-158; № 18, С. 278-279, 283-284]. Также и внутренняя ситуация, сложившаяся в Гомельской земле, оставляла сомнения в прочности её держания властями ВКЛ.
Интеграция Гомельской земли в состав ВКЛ представляла собой сложный процесс, который был затруднён негативной деятельностью представителей центральной власти — заместителей-державцев, и опасностью пограничного положения. Исследование этого периода истории юго-восточной окраины Беларуси приобретает значительный интерес.
До нашего времени только в некоторых работах, которые посвящены истории Гомеля, обращено внимание на его состояние после возвращения в состав ВКЛ [4, С. 13-15; 10, С. 96-100; 19, С. 140-151]. В них раскрыта деятельность первых гомельских заместителей-державцев и определён территориальный состав образованного в 1535 году Гомельского староства (термин «староство» более характерен для XVII в.). В качестве отдельной проблемы ситуация в Гомельской волости, сложившаяся после 1535 года, не рассматривалась. В некоторой степени это связано с ограниченностью источниковедческой базы (материалы метрики ВКЛ и посольские книги). Тем не менее, новые публикации книг метрики ВКЛ и найденные в архивах документы позволяют гораздо шире взглянуть на обозначенную проблематику.
Сохранившееся пограничное положение Гомельской земли, к тому же заведомо довольно значительный период Московского правления (в течение которого выросло новое поколение людей), требовало от центральных властей ВКЛ очень осторожного отношения к возвращенным территориям. Ряд мероприятий, действительно, свидетельствует о соответствующем стремлении. Условно их можно разделить на несколько групп. 1. меры властей ВКЛ по поддержке лояльности населения. 2. Контроль над деятельностью заместителей-державцев. 3. Укрепление в пограничной зоне шляхетского землевладения и, в основном, военно-служилого сословия — фундамента великокняжеской власти на местах. На восточной окраине государства не образовались очаги крупного землевладения (исключение — Стрешинская волость — собственность Виленской капитулы), и почти весь массив поднепровских и Подвинских волостей представлял собой хозяйские владения, в которых функции управления возлагались на наместников-державцев. Эти представители великокняжеской власти обеспечивали функционирование административной и судебной систем, выполнение различного рода повинностей и сбор налогов [9, с. 300–301]. Заместители-державцы были обязаны заботиться о соблюдении прав и защите населения, но в то же время принуждать его к выполнению повинностей, памятуя при этом, например, в отношении Гомеля, «иж тот замок на украине есть, а к людям украинным нужно ся любезно заховать и не годиться им ни в чем обътяжения чинити» [6, с. 36; 15, л. 188]. Однако реальное управление восточными землями ВКЛ на местах было далеким от идеала.
Уже 21 сентября 1535 года, вскоре после освобождения (16 июля), Гомель «до воли господарской» получил князь Александр Андреевич Сангушко-Каширский [14, арк. 69-69 адв.; 26, № 13, р. 66]. Как отмечено в самой привилегии, данному пожалованию содействовал высший гетман ВКЛ пан Юрий Николаевич Радзивилл. Интересно, что после взятия Гомеля, гетман рассчитывал на передачу города в держание сыну Николаю, и даже обратился к Виленскому воеводе, канцлеру пану Ольбрахту Мартиновичу Гаштольду, чтобы тот передал его просьбу королю [17, № 80, с. 174]. Гаштольд действительно «о том господарю его милости мовил», но король решил не спешить, а потом, когда сам будет в Литве, вместе с Господом Виленским (то есть Ю. Н. Радзивиллом), если на то будет его желание, разглядеть данную просьбу [17, № 80, с. 174]. Однако, как видим, вскоре сам Ю.Н. Радзивилл от своей идеи отказался. Причина тому, как кажется, скрывается в том, что Гомель оставался окраинным замком, на опасной Московской границе и в разрушенной войной местности. Безусловно, такое правительство (должность) трудно желать сыну.
По словам Л. А. Виноградова, через месяц после захвата Гомеля, король поручил гетману Ю. Н. Радзивиллу по его пониманию определить для волости пошлины и дани [4, С. 13]. Очевидно, Гомельской землей сначала распоряжалась военная администрация, которая уже в сентябре 1535 года была изменена гражданским управлением в лице державцы. Из доходов последнего исключались дани денежная, медовая, бобровая и куничная, т. е. то, что обычно и из других хозяйствующих волостей шло в великокняжеский клад [14, арк. 69-60 адв.; 26, № 13, р. 66].
Несмотря на протекцию одной из наиболее влиятельных личностей государства, князь А. А. Каширский распоряжался Гомелем лишь короткое время. 27 мая 1536 года «замокъ наш Гомеи со въсимъ» король Сигизмунд Старый подарил уже «до живота» в держание князю Василию Юревичу Толочинскому [14, арк. 195-196; 26, № 149 (147), р. 158]. Решение о передаче Гомеля князю было принято благодаря его верной службе и по желанию Панов рад. В. Ю. Толочинский получил доходы от Гомеля и всего, что к нему относилось, в том же размере, который имел князь Семен Иванович Можайский при короле Казимире (речь не шла о правах удельного властителя). Правда, и в данном случае денежная, медовая, бобровая и куничная дани должны были оставаться хозяину, и, вообще, соответственно с формуляром грамоты, не заметить значительных отличий в условиях распоряжения Гомелем от тех, которые получил А. А. Каширский. Интересно, что в случае с князем Василием к аналогичной фразе обоих грамот («имеет … тот замок наш Гомеи держати и на нем ся рядити и справовати с добрым а пожиточъным нашим г(о)С(по)д (а)ръским») приписано: «и без обътяженъя подданных наших тамошних» [14, арк. 69 АДВ., 195 адв.; 26, № 13, р. 66, № 149 (147), р. 158]. Не это ли явилось причиной «отставки» предыдущего заместителя-державца?
Кроме того, если обратить внимание на текст первой привилеи, можно заметить, что гомельские подданные не были лишены после перехода под власть ВКЛ от внесения традиционных Платов хозяину. А в 1536 г. обнаружилось, что «тые платы и пожитки» они начнут давать только после того, как истекут некоторые годы, на которые их «вызволили». При этом Державец мог брать все «доходы и пожитъки», что ему принадлежали «подле давного обычаю» [14, арк. 195; 26, № 149 (147), р. 158]. Возможно, после занятия Гомеля экономическое состояние города и волости было осмыслено не сразу. К тому же свою роль сыграли злоупотребления первого заместителя. В связи с этим на какое-то время (на 10 лет) хозяин пожертвовал своими интересами в пользу восстановления края и сохранения лояльности его населения.
Однако деятельность нового заместителя не могла способствовать экономическому росту и формированию положительного отношения населения к власти ВКЛ. Из письма короля Сигизмунда Старого Виленскому воеводе, канцлеру пану Ольбрахту Мартиновичу Гаштольду, от 18 июня 1537 г. узнаем о широкомасштабных злоупотреблениях князя В. Б. Толочинского, которые тот успел сделать за год с неким своего правления в Гомеле [6, С. 33-37; 10, С. 196-199; 15, арк. 186 ав. — 189; 18, С. 50-52].
Наблюдая за действиями князя Толочинского, можно заметить, что он воспринимал свой пост как источник личного обогащения и совершенно не задумывался о необходимости бережного отношения к территории, только что отнятой у Москвы. В конце концов, поведение князя можно понять. В то время еще шла война, результат которой был неизвестен. В предыдущих Московско-литовских войнах ВКЛ в основном только теряло свои территории. Естественным стремлением новоявленного наместника было извлечь величайшую выгоду из волости, которая, вполне вероятно, вновь вернется под московскую власть. В подвластных землях князь Василий не задерживался, а выезжал «из Гомеля до именей своих» [15, арк. 187 АДВ.], что, по долгам державцы, ни в коем случае не должен был делать.
Прежде всего новый державца, возможно, сразу после приезда в Гомель отобрал у встретивших его мещан грамоты, освобождавшие жителей волости от денежной, медовой, бобровой и куничной дани, подвод, серебристый и других плат и повинностей на 10 лет (назначенных хозяину), а также от работы на замок (кроме мелких) на 1 год [15, арк. 186 ав.]. Возможно, в намерение Толочинского входило собирать, пользоваться и присваивать те заборы и повинности, которые должны были идти в доход великого князя! В тот же год державца стал требовать выполнения разного рода работ, на некоторые из которых мещане вынуждены были нанимать людей. Так, налаживание езу (перегорода частоколом русла реки) стоило им 30 коп грошей, строительство гридни и конюшни – соответственно 5 рублей и 4 копы грошей [15, арк. 186 ав. – 187]. Князь присвоил бобровые берега и озера, а также 100 битых Бобров, от-ний «отчизныи» бортные земли, из-за чего их владельцы «проч оттол пошли» [15, арк. 187]. А когда князь Василий «в объезде ездил и дан(ь) и тивуновъщину с них брал» (то есть собирал по волости традиционные поборы), было отнято 12 коп грошей и меда пресного на 10 коп грошей, из-за чего «семь сел людей от того для великого обътяжения проч пошло» [15, арк. 187]. Неслыханной новостью было требование поставок сена, которого «таможние» люди накосили 500 телег «и несносную тяжкость в том приняли» [15, арк. 187]. Тяжелые условия были созданы для приезжих в Гомель с зерном (“зъбожем”) и “с ыншими речми” торговцев (гостей). Для них были введены высокие торговые пошлины (“пошлины великие”), и в результате они попросту прекрати-ли поездки в Гомель, жители которого стали испытывать недостаток в «живностях» [15, арк. 187].
И тогда к королю и великому князю было направлено несколько человек с жалобой на державца. Но по дороге их переняли, побили, ограбили и посадили в башню, отняв 16 коп грошей и 20 бобров (которые, очевидно, были взяты с собой) и положив вину на 200 коп грошей [15, арк. 187]. Узнав об этом от других челобитчиков, но не желая принимать поспешного решения, Сигизмунд отправил в Гомель дворянина Ивана Григорьевича, целями поездки которого был сбор сведений о «кривдах и тяжкостях и грабежах» державцев, содействие возврату отнятых денег и вещей и, главное, – «освобожденных» грамот [15, арк. 187 – 187 адв.]. Последней своей цели королевский дворянин не достиг и даже еще больше накалил ситуацию, потому что князь Василий не только ничего не вернул, но еще схватил жен и детей заключенных челобитчиков и требовал из них дополнительно 120 коп денег. В то же время ко двору вернулся Иван Григорьевич со списком («реистром») дел державцы, а также созрело и второе посольство от мещан и волостных людей [15, арк. 187 АДВ.].
Король сначала намеревался «тот замок н(а)шъ зъ рукъ его (князя Василия – В. Ц.) взять и инъшего державцу кто бы ся нам на то достойный бы видел там послати», однако, соответственно с желанием Панов рад и мнением Виленского воеводы, решил пока оставить прежнего державца. При этом Сигизмунд обратил внимание на то, что “тот замок за великим накладом к рукам н(а)ШИМ пришол”, а державца невнимательно отнесся к хозяйскому имуществу (“на реч н(а)шу г(оспо)д(а)ръскую и земскую видимости не иметь”), начал доводить до нищеты людей, отбирать их земли и грамоты, привлекать к замковой работе, хотя мог бы подождать год, и гомельские люди должны были эти работы соблюдать “Водле Дошног(о) обычаю”. При этом сам король, который заботился о населении пограничной зоны, чтобы оно оправилось и пополнилось новыми пришлыми людьми, на 10 лет отказался от всех Платов в свою пользу (“мы сами им фолкгуючи все платы н(а)Ши до десяти лет отпустили”) [15, арк. 187 АДВ. – 188]. Безусловно, под управлением князя Василия люди, которых довольно много осталось в волости после военных действий, не только не оправились, но и ушли прочь. Из уст короля и великого князя Сигизмунда старика прозвучало поучение, предназначенное державке: “Сам он мог бы тому разуметь, ИЖ тот замок на украине есть, а к людям украинным нужно ся ласково захо-вати и не годиться им ни в чем обътяжения чинити. «Если бы они знали и помнили, что они там живут, то могли бы, если бы мы знали, что они будут жить» (15), арк. 188].
Чтобы изменить сложившуюся ситуацию в Гомельской волости, туда был направлен дворянин королевы Боны Мартин Пацатковский. Также Виленский воевода был обязан “дати навуку” князю Василию, который должен был вперед быть более предусмотрительным, отказаться от злоупотреблений (“уперод лучшую видимость на нас г(оспо)д(а)ря и на реч земскую мелъ, ослушне а радне на том справовал и такового обътяжения людем таможним украинным не делал”), отдать грамоты “на вызволене даней и платовъ”, отобранное вернуть, за построенные “хоромы” заплатить и больше их не делать, жен с поруками освободить и “вин” с них не брать, земли и озера вернут. По всем этим делам державца отчитывался дворянину королевы Боны [15, арк. 188 ав.]. Фактически деятельность князя Василия была поставлена под прямой контроль со стороны королевского представителя.
Но, кроме того, еще два действия ограниченного в своих возможностях короля Жигимонта могли в значительной степени сдержать произвол Гомельского наместника-державца.
В качестве особой привилегии Гомельской волости для ее населения было сохранено право самостоятельно выбирать старца-руководителя общинной организации [5, с. 98]. («А что ся дотычет старца, кто бы мел старчество в той волости заведати, ино которого ч(е)л(о)в(е)ка волост на старченьство выберет, тот нехай старцом у них будет” [15, арк. 188 ав.]). Таким образом, из рук державца был отобран контроль (через своего ставленника) за жизнедеятельностью общины.
Оставив на месте неспособного к управлению волостью урядника, король обеспечил своеобразную гарантию от дальнейших его злоупотреблений. За возможные «вреда» Гомелю, которые мог причинить князь Василий, должен был отвечать Виленский воевода Ольбрахт Гаштольд. («И того бы (О)же не дай, если сбыт а неверным делом его мел оный замок н(а)шъ, который за немалым тиражом нам ся достал ку какой вреде прийти, мы того всего хотим на твоей м(И)Л(О)сти смотреть”) [15, арк. 188 ав. – 189].
Какое время оставался князь В.Ю. Толочинский Гомельским державцем, говорить трудно, однако 13 февраля 1538 г. он якобы получил другое правительство – Оршанского (рошского) державца. На тот момент предыдущий Державец князь Федор Иванович Жославский сильно болел и не мог выполнять свои повязки. Он сообщил о своем состоянии князю Василию, чтобы тот ходатайствовал о получении его должности. Паны рада и сами видели, что окраинный замок Орша (Рша) требует “державцы чуиного и справъного”, а узнав, что Толочинский готов занять эту должность, стали просить о ней короля [27, № 94, р. 156]. Так, несмотря на предыдущую деятельность, князь Василий получил в управление еще и Оршу. В ней он был обязан «вернет а справедливе нам (королю – В. Ц.) служить, и к подданным нашим тамошъним без их обтяжъливости заховати» [27, № 94, р. 156]. Князь имел те же функции, права и доходы, что и предыдущие державцы.
Что касается Гомеля, то король рассчитывал «его по тому в держанье дати, кому будь воля наша г (о)С(по)д (а) ръская” [27, № 94, р. 157]. Очевидно, город Василий Толочинский должен был покинуть. Однако еще в августе 1538 г., То есть спустя более чем полгода, он по-прежнему воспринимался как Гомельский Державец.
20 августа 1538 г. король и великий князь Сигизмунд и старик отправил Василию Юрьевичу Толочинскому грамоту, в которой заявил об очередных провинностях князя и даже о назревании среди гомельских пушкарей заговора, грозившего возвращением замка под московскую власть [21, арк. 37]. Как стало известно королю от пана Виленского, высочайшего гетмана Юрия Николаевича Радзивилла, князь Василий получил деньги, чтобы нанять роту в сто лошадей, но того не сделал и при этом стал жить в армии, “пробачив тот замок наш украинские, который всегда того нуждается, лишь бы державцы нигде с него не с(ъ)ел” [21, арк. 37]. В то же время из-за “непильности” державцы некоторые гомельские пушкари затеяли “измену”, стали собираться и родиться со стародубцами и, прежде всего, с каким-то Стародубским попом. В связи со всем этим король “под великою немилостью” приказывал, чтобы князь В. Ю. Толочинский деньги барину Виленскому” из рук своих сдал“, а сам ”днем и ночью на тот замок н(а)шъ ехал», разобрался со заговорщиками и наказал их. В Гомель должны были быть набраны другие пушкари. Сигизмунд настаивал, чтобы далее князь «с того замка Н(А)ш(О)ГО никогда не съежчал а обещны на нем мешкал и послуг г(оспо)д (а) рских там пилен был” [21, арк. 37].
Таким образом, становится понятным, что в то время другого держания князь Василий Толочинский не имел, до и не мог иметь, потому что должен был постоянно находиться в одном месте. Но все-таки зимой-весной 1538/39 г. было принято окончательное решение о переводе князя в Оршу.
Весной 1539 г. В.Ю. Толочинский находился в Орше. При этом, соответственно с кара-левской привилегией от 30 апреля 1539 г. на держание замка Орши ”до живота», князь не выслал королю соответствующую грамоту на замок Гомельский, то есть, по сути, намеревался по-прежнему им управлять. Своим новым распоряжением король аннулировал привилегию Толочинского на Гомель, а также обозначил некоторые новые условия правления князя в Орше. Державца был обязан ”своим тиражом и людми своими» восстановить и обеспечить замок («добре заробити и его справити так, как того есть потъреба”). В противном случае князь лишался должности [27, № 182, р. 254]. Кажется, Толочинский выполнил приказ короля, так как оставался Оршанским державцем до 1546 г., когда и умер [22, s. 350].
После Василия Толочинского Гомельским державцем стал пан Ян Дорошкевич. Впервые на этом посту он был упомянут в начале 1541 г. [2, № 208, с. 373], но, очевидно, Гомель не оставался без управления в течение почти двух лет. К весне 1538 г. был или назначен какой-нибудь другой, пока неизвестный, державца, или им уже тогда стал Ян Дорошкевич. Последний держал Гомель до своей смерти (в грамоте 1549 г., назначенной его преемнику, упомянутой как «небожчик»). В источниках между летом 1543-началом весны 1549 г. назывался уже другой Гомельский державца-пан Ян Хрщенович (Хрященович) [3, № 9, с. 21; 12, № 105, С. 176, № 176-177, с. 243; 16, № 14, С. 216, 219; 22, s. 30]. В хронологию его упоминаний вклинивается замечание ряда исследователей на появление в Гомеле в 1547 г. (даже с точной датой – 6 сентября) нового державца – Аникея горностая [4, с. 14; 10, с. 99; 20, с. 175; 22, s. 87]. Последний «добровольно» поменялся местами с Яном Хрщеновичем после конфликта с Черкасскими боярами и мещанами [20, с. 175]. Однако в грамоте от 15 марта 1549 г. король Сигизмунд Август обращался еще к “державцу Гомейскому пану Иоанну Хрщоновичу” [3, № 9, с. 21]. До декабря 1550 г. того снова сменил Аникей Горностай [16, № 21, с. 346]. Ян Хрщенович последовательно назывался старостой Черкасским и Каневским в 1551 г. [11, № 113, с. 152, № 114, с. 154, № 116, с. 156, № 118, с. 159]. Произошла ли в действительности чехарда занятия должности Гомельского державца, или налицо хронологическая неточность одного из источников-говорить трудно. Наконец, в 1550 г. – времени составления “реестра ревизии замка, места и волости староства Гомейского”, Гомель находился в управлении пана Каленика (называл себе Каленицким) Василевича Тышкевича [10, с. 100; 13, № 91, с. 105; 22, s. 359].
О столкновениях интересов гомельских мещан и жителей волости со стремлениями Державцев после князя Василия Толочинского пока сведений не обнаружено, однако при Яне Дорошкевиче и Яне Хрщеновиче происходил конфликт со священниками – владельцами земель в Гомельской волости. Так, Ян Дорошкевич не допускал священников церкви св. Николай в Гомеле за данью у них бортные земли, дарованные еще князем Семеном Можайским, и отобрал 10 пудов меда из той дани [2, № 208, с. 373]. Кроме того, как выясняется из грамоты, направленной уже другому державцу-Яну Хрщеновичу,” небожчик » Ян Дорошкевич беззаконно распоряжался землями той же церкви Севастьяновщиной и Богдановщиной, полученными от того же князя Семена Можайского [3, № 9, с. 21]. Также и Иоанн Хрщенович священником церкви св. Николай запрещал въезжать в свои земли, а “пожитки” из них брал на себе [3, № 9, С. 21]. Хозяин выступил в защиту прав местных землевладельцев и своими распоряжениями огородил церковную собственность от устремлений Наместников.
Одним из направлений политики королей польских и великих князей литовских в пограничной Гомельской волости (который, однако, активно проявился уже в XVII в.) стало поощрение и развитие шляхетского землевладения.
Так, вскоре после освобождения Гомеля были возвращены владения дворянам Халецким. Соответственно с письмом короля и великого князя Сигизмунда и старика от 10 сентября 1537 г., село “отчизное на имя Халчо и с другими селами к нему прислушаючими со всем, как ся оно издавна в себе мело” должно было быть передано Гомельским наместником князем Василием Юрьевичем Толочинским (а он не желал его вступать) дворянам Есифу и Астафею Халецким, сыновьям Овручского наместника Михаила Михайловича Халецкого [15, АРК. 232 АДВ.; 22, s. 19; 27, р. 91]. Согласно информации, которая отразилась в новогородских гродских книгах, «другими» селами, получившими в 1537 г. братья Есиф и Астафей, были Новоселки и Юрковичи [24, s. 19]. Однако в 1560 г. обозначенные два пункта относились к хозяйской Гомельской волости и Халецким не принадлежали [1, № 100, С. 372-373]. У тех же братьев в районе Гомеля кроме Хальча были перечислены: Сидный (?), Кузмичи, Глыбов, Черны (Черный), Пененжовичи (Пыреевичи?), а также в Киевском воеводстве Ржищев [20, с. 185; 24, s. 19]. Компактного владения все села не создавали. Возле Хальча выше по р. Сож лежали Новоселки и Юрковичи. Глыбов и черный находились рядом, но по разным сторонам р. Днепр, между Горвалем и Речицей. Кузмичи располагались далеко за Сожем в восточной части Гомельской волости (на момент составления «реестра» 1560 г. Это, безусловно, хозяйское село).
К 1560 г. в районе Горваля и Речицы, за пределами исторической Гомельской волости, сложился комплекс владений Халецких. Василию и Андрею принадлежали «в одном обрубе сел чотыри»: Чеботовичи, Засовье, Кальскевичи и черные [1, № 100, С. 376]. Выдержки из новогрудских книг присоединяют к этому массиву смежное село Глыбов (см. ниже). выше), а также вспоминают у Андрея, Дмитрия и Иоанна Халецких имения Ржищ (в Киевском воеводстве), Хальч, черные, Чеботовичи, Черников (?), Пененжевичи (Пыреевичи?), Котры Кельбасины (?) [24, s. 19]. В 1581 г. между Андреем и Иоанном Халецкими был совершен обмен черным, Чеботовичами и Телешевым на Хальч и Глыбов [24, s. 19]. Таким образом, по меньшей мере, еще одно село (Телеши – Телешевичи) присоединилось к комплексу владений Халецких. А вокруг Хальча, очевидно, не так много земель принадлежало его старым владельцам. Грамота неизвестному Юрию Богдановичу Халецкому 1514 г., в которой он якобы был пожалован королем Сигизмундом Августом Старым селом (около Хальча), есть явная подделка, хотя С. М. Кучиньский и привел возможные варианты ее появления [24, s. 20–22].
Укрепление в Гомельской земле землевладения Халецких, безусловно, способствовало более сильной ее интеграции с остальными территориями ВКЛ. Однако в административном плане Земли Халецких были выведены из состава Гомельской волости.
В заботах за свои владения, Халецкие, безусловно, могли способствовать укреплению обороноспособности Гомельской земли. Однако основная роль в военной организации Гомеля возлагалась на державца. От него зависели состояние замка, комплектация и снабжение армии, пограничная служба. В случае с Гомелем свои основные обязанности державцы исполняли небрежно, вообще оставляли город на произвол судьбы и своей беспечностью содействовали назреванию заговора. В конце концов, если смотреть на материалы Московско-литовских посольских книг, ситуация на пограничье была относительно спокойной. Ни одна, ни другая сторона не предпринимали масштабных действий, которые были способны нарушить сложившееся равновесие мирного времени.
Московско-литовская граница, с трех сторон окружившая Гомельскую землю, выделялась своим особым «глухим» характером. Леса, болота, почти повсеместное отсутствие дорог затрудняли наблюдение и контроль за линией границы (которая вряд ли вообще была четко определена), создавали возможности для постоянного проникновения на чужую территорию, разорений, вводов в плен и т.д. Основная часть пограничных “обид” была связана с захватом и грабежом лесных промыслов и близких поселений. Опасной Гомельщина была для торговцев и всех, кто шагал по ее лесным дорогам. Свои, гомельские преступники прятались в приграничных московских землях и оттуда продолжали беспокоить территорию Гомельской волости. Наконец, на пограничье с обеих сторон постоянно происходили” кривды, зачепки и вреда», за которыми стояла повседневная жизнь общества того времени.
До 12 июля 1543 г. “человек гомейский” Полозович (Полозов), “вреда и убытки починившей” в Гомельской волости, бежал за границу и оттуда продолжал творить преступления [16, № 14, С. 216, 219]. В то же время казаки (возможно, из Черниговского въезда) вывели 3 семьи и выгнали 100 голов “скот рогатого” из Гомельского с. Слобода (Слободка) [16, № 14, С. 216, 219]. В сентябре 1544 г. с московской стороны пришла жалоба, что “из Гомеля приходят розбоем” окраиннные люди. Они погребли людей на Черниговской дороге и некоторых убили [16, № 15, с. 224, 230, № 17, с. 259]. В ответ послы ВКЛ заявляли о грабежах торговцев и других людей, о том, что с московской стороны вступаются в села, людей, Земли и воды на Гомельской территории [16, № 15, с. 230]. В 1550 г. повторилось общее заявление о” кривдах и обидах “от московских” украиннных » людей [16, № 20, C. 336], а московской стороной был составлен подробный” Список обидных дел » [16, № 21, C. 345–347]. В основном речь шла о грабежах и захватах лесных угодий (пчелиных бортей и бобровых Гонов), но встречались случаи, когда, например, в Горьске (селе Стародубского въезда) гомельские люди сняли с церкви колокол, внесли две книги и 5 больших свечей, ввели в папа Нечая 4 мерина. Кража лошадей также была распространена. Наиболее значимым событием стал приход людей державцы Аникея горностая (Ржевского с друзьями) в Стародубское село Микуличи и грабеж на 1200 рублей [16, № 21, C. 346–347]. В 1552 г. старосты Гомеля и других приграничных городов ВКЛ сообщали королю Сигизмунду Августу о том, что в перемирие от московских городов “великие кривды, зачепки и вреда стали”, а их заместители “управы никакие… в тех делах обидных людьми нашим не делают” [16, № 23, C. 357]. Однако, на самом деле, принцип, заложенный в условиях перемирийных грамот (князья, наместники и волостели” обидным делом во всем управлении вчинят на обе стороны » [25, № 164, р. 212]), работал. Пограничные споры решались, награбленное возвращалось, виновные наказывались. В основном, значительные конфликты на Московско-литовской границе происходили редко. Мирная жизнь налаживалась.
Таким образом, состояние Гомельской земли после присоединения к ВКЛ характеризовалось сложнейшей внутренней ситуацией, которая была связана, прежде всего, с негативной деятельностью заместителей-Державцев и влиянием пограничного положения. Тем не менее, меры центральных властей (пред всеми короля и великого князя) по облегчению налогового давления, защите от само-вольства Державцев, соблюдению прав собственности и, разумеется, обеспечению военной охраны населения содействовали постепенному сглаживанию противоречий. Самое главное – Гомельская земля не вернулась под московскую власть, почему существовала реальная угроза. Вопрос о возвращении Гомеля постоянно поднимался московской стороной во время переговорок 40-х гг. XVI в. [16, № 9, С. 155-158, № 18, С. 278-279, 283-284], но безрезультатно. Именно тогда Гомельщина становится неотъемлемой частью ВКЛ, окончательно отпадает от такого историко-географического региона, как Северская земля (в который входила с древнерусских времен), включается в процесс этногенеза белорусов и в итоге присоединяется к государственной территории Республики Беларусь.
В. М. Темушев, Институт истории НАН Беларуси
Литература
- Акты, издаваемые Виленской археографической комиссией: в 39 т. – Вильна, 1865–1915. – Т. XIII. – 1886.
- Акты, относящиеся к истории Западной России. Т. II. Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографической комиссией: в 5 т. – Санкт-Петербург: Археографическая комиссия, 1846–1853. – Т. II: 1506–1544. – 1848.
- Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археогра-фической комиссией: в 5 т. – Санкт-Петербург: Археографическая комиссия, 1846–1853. – Т. III: 1544–1587. – 1848.
- Виноградов, Л.А. Гомель. Его прошлое и настоящее / Л.А. Виноградов. – М., 1900. – 48 с.
- Голубеў, В.Ф. Сельская абшчына ў Беларусі XVI–XVIII стст. / В.Ф. Голубеў. –Мінск: Беларуская навука, 2008. – 407 с.
- Довнар-Запольский, М.В. Очерки по организации западно-русского крестьянства в XVI веке / М.В. Довнар-Запольский. – Киев, 1905. – VI, 307, 167 с.
- Кром, М.М. Меж Русью и Литвой. Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца XV – первой трети XVI в. / М.М. Кром. – М.: Квадрига; Объединенная редакция МВД России, 2010. – 320 с.
- Кром, М.М. Стародубская война (1534–1537). Из истории русско-литовских отношений / М.М. Кром. – М.: Издательский дом «Рубежи ХХI», 2008. – 140 с.
- Любавский, М.К. Областное деление и местное управление Литовско-Русского го-сударства ко времени издания первого литовского статута / М.К. Любавский. – М.: Университетская типография, 1892. – 884 с.
- Макушников, О.А. Гомель с древнейших времен до конца XVIII в. Историко-краеведческий очерк / О.А. Макушников. – Гомель: РУП «Центр научно-технической и деловой информации», 2002. – 244 с.
- Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. – Кніга 28 (1522–1552 гг.). – Кніга запісаў 28 / Падрыхтоўка тэкстаў да друку і навук. апарат: В. Мянжынскі, У. Свяжынскі. – Мінск: Athenæum, 2000. – 312 c.
- Метрыка Вялікага княства Літоўскага. – Кніга 30 (1480–1546 гг.). – Кніга запісаў 30 (копія канца XVI ст.) / Падрыхт. В.С. Мянжынскі. – Мінск: Беларуская навука, 2008. – 386 с.
- Метрыка Вялікага княства Літоўскага. – Кніга 44. – Кніга запісаў 44 (1559–1566) / Падрыхтаваў А.І. Груша. – Мінск: Aрты-Фэкс, 2001. – 229 c.
- Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. – КМФ-18 (Ф. 389). – Воп. 1. – Спр. 19.
- Национальный исторический архив Беларуси. – КМФ-18 (Ф. 389). – Воп. 1. – Спр. 21.
- Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским. – Т. II / под. ред. Г.Ф. Карпова // Сборник Императорского Русского Исторического общества: в 148 т. – Санкт-Петербург, 1866–1916. – Т. 59. – 1887. – XV, 629 с., 98 стб.
- Памятники истории Восточной Европы. Monumenta historica res gestas Europae orientalis illustrantia: источники XV–XVII вв. / Федеральная архивная служба России и др.; редколлегия: И. Граля и др. – Москва: Древлехранилище, 2002. – Т. 6: Радзивилловские акты из собрания Российской национальной библиотеки: первая половина XVI в. / сост. М.М. Кром. – 267 с.
- Памяць: Гістарычна-дакументальная хроніка Веткаўскага раёна / уклад. У.Я. Райскі. – У 2 кн. – Кн. 1. – Минск: Белта, 1997. – 376 с.
- Темушев, В.Н. Гомельская земля в конце XV – первой половине XVI в.: территориальные трансформации в пограничном регионе / В.Н. Темушев. – М.: Квадрига, 2009. – 189, [2] с.
- Яковенко, Н.М. Українська шляхта з кiнця XIV – до середини XVII столiття. Во-линь i Центральна Україна. / Н.М. Яковенко. – Київ: Критика, 2008. – 272 с.
- Лист от короля Жигимонта І державце гомейскому кн. Вас. Юр. Толочинскому // Archiwum Główny Aktów Dawnych. – Archiwum Potockich z Radzynia. – Sign. 295. – S. 37.
- Boniecki, A. Poczet rodów w Wielkim Ksęstwie Litewskim w XV i XVI wieku / A. Boniecki. – Warszawa, 1887. – XV, 425, XLIX s.
- Kolankowski, L. Zygmunt August, Wielki Ksiaze Litwy do roku 1548 / L. Kolankowski. – Lwow: Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej, 1913. – 414 s.
- Kuczyński, S.M. Rodowód Michała Chaleckiego / S.M. Kuczyński // Miesięcznik heraldyczny. – 1934. – № 2. – S. 17–23.
- Lietuvos Metrika – Lithuanian Metrica – Литовская Метрика. – Kn. 15 (1528–1538) / Parengė A. Dubonis. – Vilnius: Žara, 2002. – 442 р.
- Lietuvos Metrika – Lithuanian Metrica – Литовская Метрика. – Kn. 19 (1535–1537) / Parengė D. Vilimas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 2009. – 362 р.
- Lietuvos Metrika – Lithuanian Metrica – Литовская Метрика. – Kn. 20 (1536–1539) / Parengė R. Ragauskienė, D. Antanavičius. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2009. – 442 р.
Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины, №5(68), 2011
Перевод Александра Флегентова