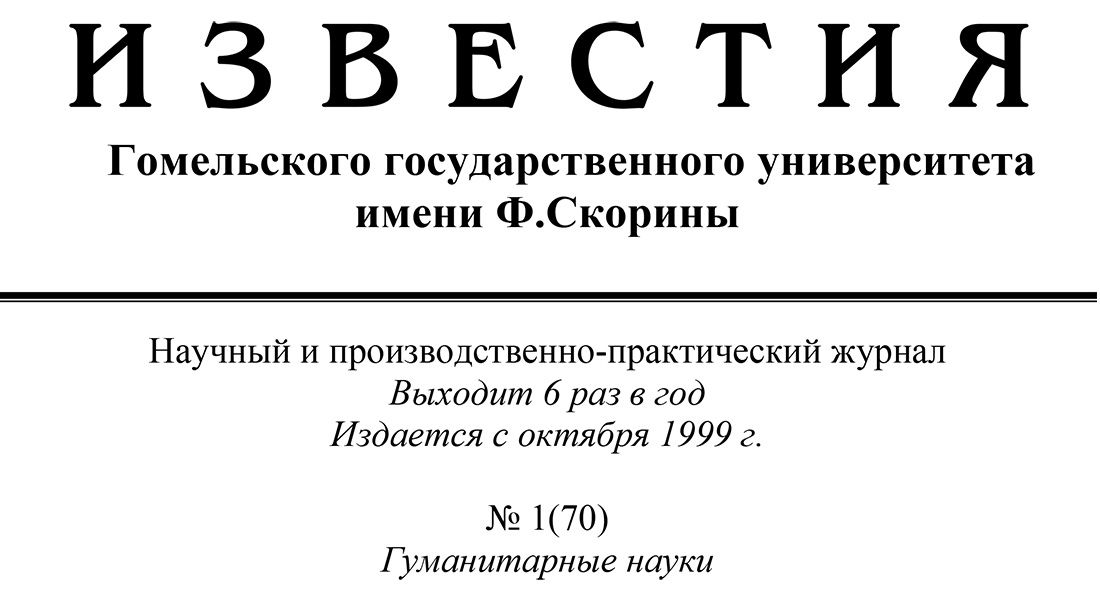В статье освещается художественная жизнь Гомеля в первое десятилетие советской власти. Отмечается, что это был период расцвета искусства и время культурного плюрализма, проявлявшегося несмотря на жесткие идеологические рамки. В городе работали различные художественные студии, проходили выставки.
Художественная культура является важнейшим элементом духовной защищенности общества. Определяющим, стержневым элементом в системе ориентации личности на значимость (позитивность) художественно-эстетической ценности является знание ею истории национально-художественного развития, в т. ч. и таких наиболее значимых регионов и центров, как Минск, Полоцк, Гомель, Туров и других. Именно художественная культура, аккумулирующая социально-культурный опыт поколений и выступающая как открытая система развития, располагает обобщающе-конкретными возможностями гармоничного воспитания молодежи, что подтверждает актуальность выбранной автором темы.
Современное белорусское искусство очень многолико. Художники Гомельщины так-же работают в разных жанрах и направлениях. Их работы представляются на художественных выставках в разных странах. В творчестве гомельских художников замечаются традиции классического искусства, поиски новой изобразительной «речи». Используют они и опыт старшего поколения гомельских художников, которым пришлось жить и работать в противоречивые послереволюционные годы. После октября 1917 года заметно изменились условия художественного творчества. Основная задача данной статьи в том, чтобы на примере города Гомеля рассмотреть большевистский дискурс власти в той форме, в которой он проявил себя в изобразительном искусстве.
После Октябрьской революции началась перестройка художественной жизни страны. У самых истоков большевизма как идейного течения находилась ленинская идея использования культуры в качестве «служанки политики», действенного инструмента воздействия на людей, на их сознание и поведение. Современное для Ленина и его единомышленников искусство понималось исключительно утилитарно и идеологически: оно было всего лишь искусным средством политики, особым языком политической агитации и пропаганды. Так, скульптура и архитектура трактовались как средство «монументальной пропаганды», изобразительное искусство нередко сводилось к политическому плакату, музыка предназначалась для сопровождения массовых, в том числе политических действий – марш, песня, танец и т. д. [1, с. 249]. По стране передвигались декорированные агитпоезда, агитпароходы, десятки агитповозок, выпускались листовки, плакаты, брошюры, ученические тетради с призывами и портретами большевистских лидеров, революционной символикой. Планировалось даже начать выпуск предметов первой необходимости (например, кухонная посуда), которые будут расписаны революционными лозунгами, портретами вождей пролетариата, что позволит в каждый дом рабочего и крестьянина «внести весь цикл коммунистических идей» [2, с. 73]. Утопия идеи общества социальной справедливости и свободы творчества «подкупила» многих художников. Перед ними встала задача поиска новых средств и форм отображения действительности. В атмосфере энтузиазма появляются различные художественные группы, студии, вырабатываются новые программы художественного образования. В искусстве главное место занял образ борца за новое устройство жизни – рабочего, красноармейца, крестьянина. Однако желание молодых художников принимать непосредственное участие в строительстве новой жизни, по мнению современников, постепенно превращало их творчество в работу ремесленника.
Художественная жизнь в Гомеле оживилась уже после февральской революции 1917 года Было создано объединение любителей изобразительного искусства. Посещала его местная интеллигенция. Среди участников были С. Ковровский, М. Остапец, Н. Русецкий, А. Самойленко и другие. Организовывались совместные выходы на этюды. Члены объединения смогли даже организовать художественную выставку. В послеоктябрьский период на местах создаются новые органы власти. Общее руководство культурной жизнью в губерниях было возложено на художественные губернские и уездные отделы политпросвещения. Большую роль в консолидации творческой интеллигенции, привлечении ее к сотрудничеству советская власть придавала профессиональным союзам работников искусств, которые были организованы по стране на протяжении февраля – октября 1917 года. Местный отдел союза на-чал действовать и в Гомеле. Он состоял из подотделов и секций: музыкального образования, изобразительного искусства, актеров, литературной и других. Среди главных задач определялись такие, как регистрация работников, определение степени квалификации музыкантов, актеров, художников, наблюдение за художественным исполнением спектаклей и концертов, организация работы по повышению профессионального уровня творческих работников, координация концертной деятельности в губерниях. Кроме этого, местные отделы союза стремились исполнить главную роль, которая им определялась, – «нести искусство в рабочую массу». Проводились «Праздники искусства», «Недели фронта» и т. д. Программы мероприятий были довольно насыщенными. Это художественные выставки и лекции по искусству, спектакли драматических коллективов, исполнение концертных произведений [3, л. 12].
В 1918 году руководством страны был разработан план монументальной пропаганды. Характеризуя искусство как огромную «мобилизирующую» силу, этот план определил конкретные пути повышения идейно-воспитательной роли искусства, в том числе художественное украшение городов новыми символами, надписями, эмблемами, лозунгами, которые бы содержали коренные принципы нового социалистического строя. В целом, большевистское политическое искусство оформилось в годы гражданской войны, когда более 450 групп художников выпустило тысячи плакатов для мобилизации и агитации населения. С 1921 г., в начале нэпа, производство плакатов заметно уменьшилось, снизились их яркость и художественное своеобразие. Массовая пропаганда возобновилась в 1929 г. с началом новой пяти-летки [4, с. 265]. Политические плакаты являлись главным средством воздействия, поскольку общество было в своем большинстве неграмотным, и здесь была развита мощная традиция изобразительной культуры.
Примером осуществления ленинского плана монументальной агитации и пропаганды средствами искусства было оформительское агитационное искусство Гомеля. Город пестрел лозунгами, призывами, надписями по революционной тематике. Главной отличительной чертой оформления Гомеля в сравнении, например, с Витебском являлась его большая однородность. В городе работала многочисленная группа художников реалистического направления. Основная деятельность по оформлению города осуществлялась секцией изобразительного искусства Гомельского губернского отдела народного образования, которая насчитывала 17 художников. Также в городе были организованы художественно-плакатная мастерская местного отделения Всероссийской организации работников искусств и живописная мастерская “Артель”. Новое, чрезвычайно яркое художественное оформление придавало нашему городу неповторимую особенность и, в целом, было созвучно возвышенно-романтическому настроению людей революционной эпохи. Популярностью пользовались простые плакаты и доступные лозунги “Дети – цветы жизни”, “Мир хижинам, война дворцам” и другие, написанные “золотом” на толстых зеркалах с отшлифованными сторонами и украшенные не-большими виньетками. Плакаты обычно рисовали на больших листах фанеры и прикрепляли на уличных столбах. На зданиях развевались флаги-эмблемы, которые расписывали художники по заказу различных учреждений. Улицы украшались елочными гирляндами и венками из зелени.
Художник Я. Телешевский, вспоминая первые послеоктябрьские годы, писал, что «Гомель имел такой праздничный вид, что даже в праздники не требовалось дополнительно-го украшения, а лозунги и плакаты были доходчивыми и понятными. Например, на моем первом плакате имелось изображение красноармейца с книгой в руках и надпись, сочиненная мной самим:
Вчера с винтовкой, с книгой и саблей боевой
ты шел в последний бой с белобандитской кликой.
Сегодня труд и книга – вот новый жребий твой» [5].
Примером агитационного искусства являлись и «Окна РОСТА». Их создателями были известный русский поэт В. Маяковский и его единомышленники М. Черемных, Д. Моор и другие. Это были небольшие рисунки на листах с доступными надписями, исполненные в экспрессивной, многоцветной форме. Вечером на площадях городов включались световые газеты РОСТА. Усилиями художников-энтузиастов специальные мастерские РОСТА были созданы и в Гомеле. Заведующим художественной частью губРОСТА был назначен Я. Телешевский, после его отъезда на учебу в Москву должность занял А. Евмененко. Выпускались злободневные сатирические плакаты, рисунки, карикатуры на политические темы, которые выставлялись в витрине магазина. Однако, как вспоминали сами создатели Гомельских мастерских РОСТА, по причине недостатка материальных средств и профессионального опыта их работы были обычным подражанием плакатам из агитационной мастерской В. Маяковского. Чаще всего они просто делали фотографии этих плакатов и выставляли их в витрину [5].
В 1919 году в Гомеле была организована художественная студия имени Врубеля, которую возглавил С. Розин. Он имел специальное художественное образование (учился в Виленской рисовальной школе и школе декоративного искусства в Париже). Позднее руководителем студии стал А. Гефтер (выпускник Виленского художественного училища). Студия была разделена на творческие мастерские, которые возглавляли старшие по возрасту и более опытные художники. Так, руководителем натурной мастерской стал Н. Малец, натюрморта – А. Гефтер, графического класса – А. Быховский, декоративной мастерской – С. Ковровский [6, л. 2]. Молодые студийцы неофициально именовались «подмастерья». Среди них можно назвать Г. Ниского, Я. Телешевского, Г. Шифрина, К. Сацко, А. Евмененко. Члены студии были отнесены к 21 разряду тарифа работников искусств и получали месячный оклад в раз-мере трех тысяч рублей [7, л. 55].
В первые недели работы студийцы учились рисовать с натуры и портреты друг друга. Позже у студии появились первые заказы. Главным образом, это были оформительские работы к революционным праздникам и агитационным кампаниям, например, плакаты и лозунги, портреты Ленина и других вождей революции. В августе 1920 года, по решению общего собрания, студия была реорганизована «для достижения большей эффективности работы». Был избран Совет студии, который стал административным и исполнительным органом студии. За административную работу ответственным был назначен Розин, за учебную – Малец, хозяйственную – Вильчковский [6, л. 5].
Некоторой активизации работы студии содействовала проведенная 21 сентября 1920 года первая губернская конференция работников искусств. С докладом “О развитии изобразительного искусства в губернии” выступил заведующий секцией изобразительного искусства Гомельского отделения союза Рабис А. Быховский. В принятом постановлении отмечалось: «1) признать не только желательным, но и необходимым организовать в центре губернии художественную студию коллективного творчества и обязать все литературно-художественные силы города принять самое активное участие в ее работе и организации художественного журнала; 2) в связи с большой нехваткой художественных сил как в центре губернии, так и в уездных центрах деятельность художественных мастерских расширить, привлекая к работе не только горожан, но и сельчан, обеспечив их содержание как стипендиатов; 3) для популяризации и развития у населения художественных представлений и за-дач изобразительного искусства организовать чтение лекций в губернии на художественные темы и передвижные выставки; 4) организовать по мере возможности художественные студии, которые помогли бы проявить у всех желающих художественные способности; 5) организовать при студиях специальные художественные педагогические курсы по подготовке школьных работников рисования; 6) в связи с тем, что сейчас создается большое количество плакатов, которые быстро изнашиваются и теряют свою ценность, приступить к созданию монументальных памятников в разных районах губернии» [8, л. 14].
Однако на протяжении года ситуация фактически не улучшилась. Летом 1921 года коллектив художественной студии Врубеля был вынужден обратиться в губернский союз Рабис с докладной запиской, в которой отмечалось, что «до последнего времени политические условия и близость фронта отложили на последний план дело художественного образования в губернии, так как на очереди дня было обслуживание фронта и губернии произведениями художественно-агитационной пропаганды. Сейчас есть возможность приступить к планомерной работе в студии». В записке был предложен план по организации художественного образования в губернии. Согласно плану, студия должна была разделиться на школу и мастерские. Школа давала бы общую и теоретическую подготовку желающим учиться живописи в мастерских студии, а также готовила бы преподавателей графических искусств для школ І и ІІ ступени. В школе должны были изучаться следующие предметы: элементарное рисование и черчение, натюрморт, натуры (живая) и пейзаж, анатомия. Планировалось, что занятия будут проходить каждый день (по 2 часа на каждый предмет). В мастерских предлагалось обучать квалифицированных работников для художественного производства по специализациям – графической, декоративной, скульптурной (по выбору учащегося). Срок обучения каждой специальности – 2 года. Руководством студии была разработана программа обучения и проведено персональное распределение занятий по школе и мастерским: «Школа: элементарное рисование – Розин, черчение – Вилькин, натюрморт – Гефтер, живая натура – Малец, пейзаж – Русецкий; мастерские: графика – Быховский, декорация – Ковровский, скульптура – (в документе не отмечено); лекции по истории искусств – Выготский; перспектива – Вилькин; анатомия – Остапец». Для реализации намеченных планов руководство студии просило союз Рабис помочь с помещением, в котором можно было бы разместить 3 класса, 3 мастер-ские, склад материалов, библиотеку-клуб, музей и интернат на 30 человек [9, л. 134–135].
Объявление набора учащихся в школу при студии Врубеля показало, что желающих было много. Вступительные экзамены сдавали 400 человек, и был принят 101 учащийся. Отдел по делам музеев и охране памятников искусства и древностей передал для музея при студии около 20 произведений живописи [10, л. 327].
Планы и надежды студийцев так и не были реализованы. Объявленные в документах советского руководства положения о поддержке образования, культуры и искусства не имели реального экономического фундамента, в стране царила хозяйственная разруха. Студия Врубеля не смогла активно начать деятельность из-за нехватки материальных средств. Деньги были выделены только на приобретение материалов. Зарплата задерживалась или вообще не выдавалась. Несмотря на материальные трудности, студия Врубеля активно участвовала в оформлении города к праздникам, выполняла заказы организаций. Так, за 1920 – осень 1921 года студийцы нарисовали 194 портрета, 79 плакатов, 407 лозунгов, 15 театральных декораций, 87 диаграмм; сделали 23 бюста, 28 барельефов, 3 памятника, 14 уличных декораций (арки, трибуны) [10, л. 2]. Но материальные трудности привели к постепенному прекращению работы студии. В конце 1921 года наиболее активные студийцы разного возраста (11 человек) уехали в Москву для продолжения учёбы и поступили на разные факультеты Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС, позже – Высший художественно-технический институт). Художник Я. Телешевский, также учащийся студии Врубеля, отмечал в своих воспоминаниях, что «студия была скорее творческой коммуной, а не училищем. Тем не менее, на начальном этапе она определила направление и профессию многих студийцев, которые стали известными художниками. Например, писал Я. Телешевский, «однажды в студию медфельдшер из Новобелицы Г. Ниский привел своего сына, рослого и очень стесни-тельного мальчика, который очень хотел научиться рисовать. Позже народный художник СССР Георгий Ниский искренне признавался, что всем успехам, достигнутым в творчестве, он обязан родной студии Врубеля» [5]. Пять бывших преподавателей и учащихся Гомельской студии им. Врубеля стали членами Московского союза художников: Г. Ниский, А. Быховский, А. Гефтер, А. Самойленко, Я. Телешевский.
В целом, несмотря на материальные трудности, художественная жизнь Гомеля продолжалась. Сергей Ковровский, который вернулся из Москвы, возглавил студию изобрази-тельного искусства Клуба железнодорожников. Действовали студия Чонгарской дивизии, студия для красноармейцев и «желающих рисовать гомельчан», организованная художником Е. Кравченко. Художественные кружки работали при губернской партшколе (руководитель Розин), школе «Деревенщиков» (руководитель Ковровский), педагогическом техникуме (руководитель Громыко).
Большим уважением гомельчан пользовалась студия С. Ковровского. Интересные воспоминания о студии и ее руководителе оставил известный белорусский художник, ученик студии Н. Тарасиков. Он писал, что С. Ковровский был одним из талантливейших художников с новыми революционными взглядами на искусство, который призывал своих учеников единым фронтом выступить против «гидры контрреволюции в искусстве». С. Ковровский, вспоминал Н. Тарасиков, был очень «живым, красивым, высоким, стройным человеком с большими выразительными и обаятельными глазами. Он нравился ученикам своей внутренней и внешней красотой, особенно девчатам. Ковровский мечтал о большом коллективе художников-единомышленников, так как один индивидуалист ничего не сделает со старым подражанием академической школе». Своим ученикам он говорил: «Скорее подрастайте, учитесь и будете достойными помощниками нам в борьбе за настоящее революционное искусство социалистического реализма». Ковровский принимал в студию всех желающих, так как считал, что если человек и не будет художником, он станет грамотным поклонником, меценатом, эстетом, любителем живописи. Он часто говорил своим ученикам, что «художник – это тяжелая работа». Иногда талантливые чрезмерно гордятся своими успехами, а через год усидчивые и старательные обгоняют их. Студийцы вместе с руководителем выезжали на этюды в Новобелицу, на Мельников луг, на Сож. Оценивая С. Ковровского как художника, отмечал в воспоминаниях Н. Тарасиков, можно утверждать, что он очень хорошо рисовал, грамотно и творчески подходил к работе, владел «культурой кисти». С. Ковровский – пример творческого порыва и настоящего горения в живописи, художник с самостоятельным и оригинальным графическим почерком [11, л. 2, 5].
С первых недель работы в 1919 году стала известной в Гомеле студия, организованная художником Е. Кравченко. Студийцы участвовали в художественном обслуживании воинских частей, сельских школ, иллюстрировали школьные настенные газеты, делали украшения к революционным праздникам. Несколько лет студия занимала верхний этаж одного из зданий города. Однако в 1922 году в этом здании разместился партийный клуб, и студии оставили одну комнату. Учащиеся высших художественно-технических мастерских, приезжавшие из Москвы на каникулы, посещали студию и работали со студийцами, делились приобретенными во время учебы знаниями. В 1925–1926 годы расходы на содержание студии (30 рублей в месяц) были включены в местный бюджет, а руководителю была назначена заработная плата [12, л. 452]. Однако, по неизвестным причинам, в 1926 году городской отдел народного образования решил закрыть студию, работавшую в тот период при школе К. Маркса, не согласовывая при этом свои действия с ее руководителем Е. Кравченко. Родители учащихся обратились в горсовет с просьбой поддержать студию, которая, несмотря на все трудности, долгое время не используя государственных средств, занималась необходимой горожанам деятельностью. Была создана специальная комиссия, которая обследовала работу студии. В акте, составленном комиссией 18 сентября 1926 г., отмечалось, что студия перспективная, и ее закрытие «разрушит полезный культурный институт, что отрицательно отразится на художественной молодежи такого большого центра, как Гомель». Комиссия рекомендовала не только не закрывать студию, но и «обязательно сохранить её и развивать как мастерскую живописи». Поддержало студию и исполнительное бюро школы К. Маркса. Было отмечено, что работа студии способствует школьному самоуправлению. Студийцы помогали в оформлении школы, готовили настенные газеты, делали портреты, лозунги, оформили различные уголки: Ленинский, Красной армии и другие [13, л. 449, 451].
Городской отдел народного образования не успел рассмотреть все документы и записки в защиту студии Е. Кравченко. По распоряжению заведующего школой К. Маркса, с непонятной поспешностью технические сотрудники «очистили» помещение от имущества студии и работ, за которыми комиссия признала значительную художественную ценность. Позже в одном из протоколов заседания художественного отдела гороно было подчеркнуто: «Многолетняя деятельность художественной студии Е. Кравченко была очень голословной и предвзятой» [12, л. 446]. Неизвестно, какие факты повлияли на работников отдела народного образования, что была дана именно такая оценка семилетней деятельности студии Е. Кравченко. В целом, ситуация с художественным образованием молодёжи в Гомеле ухудшилась. Так, если в 1924 году художественные студии посещало 37 гомельчан, а в 1925 году – 40, то в 1926–1927 годы их количество сократилось до 28 человек [14, л. 3, 23].
К середине 1920-х годов большевистское руководство все более склонялось к мысли, что культурный плюрализм, идея «многообразия» в искусстве, свидетельствовали о недостаточном понимании политического опыта деятелями культуры, об их низкой политической организованности и сплоченности, «слитности» с действительностью. Писателей, художников, музыкантов призывали объединяться в единые союзы по профессиональному принципу. В 1927 году в Минске было создано Всебелорусское объединение художников. В разных городах Беларуси стали открываться его отделения. Гомельские художники также обратились к местному руководству с просьбой о создании такой структуры. 3 сентября 1927 года Гомельский окружной отдел ГПУ дал разрешение на регистрацию. Для привлечения к его работе «художников-одиночек» в местные газеты было дано объявление об открытии отделения [15, л. 2, 13]. Организацией Гомельского отделения Всебелорусского объединения художников занималась инициативная группа из бывших преподавателей и учащихся студии им. Врубеля. На очередном заседании было выбрано временное правление в составе Н. Русецкого, С. Ковровского и Г. Шифрина. В соответствии с уставом Всебелорусского объединения художников, был проведён приём художников в гомельское отделение. Все желающие заполняли следующую анкету: 1) Ф.И.О.; 2) год рождения; 3) национальность; 4) социальное положение; 5) образование общее и специальное; 6) в какой сфере искусства работает; 7) в каких художественных выставках участвовал; 8) был ли за границей СССР и где; 9) есть ли о работе статьи, рецензии и т. д.; 10) какие мастерские и художественные школы более близки; 11) место жительства; 12) партийность [15, л. 10].
Учитывая, что Гомель был позднее других городов присоединен к БССР, местные художники стремились показать свои работы в столице республики. Еще до официального оформления Гомельского отделения инициативная группа начала подготовку к участию во Всебелорусской художественной выставке, посвященной десятой годовщине октябрьской революции. В первую очередь обратились в правление Всебелорусского объединения художников с просьбой помочь деньгами и красками. Всем местным художникам предлагалось определить темы, которые отражали бы «быт и строительство революционной БССР», и представить картины на утверждение инициативной группы. Было принято решение об отправке «на выставку в Минск 43 работ следующих художников: Русецкого (10 работ), Ковровского (4), Зорина (6), Голубкиной (8), Мальца (10), Тарасикова (5)» [15, л. 26].
В соответствии с уставом Всебелорусского объединения художников, открыть его отделения могли в тех городах, где было зарегистрировано не менее 10 художников. Постепенно Гомельское отделение набрало 10 человек и получило возможность официально зарегистрироваться. Правление располагалось в клубе работников просвещения по ул. Комсомольской, 39. Председателем был избран Н. Русецкий. Был установлен размер членских взносов: для поступающих – 1 руб., для членов – 25 коп. в месяц [16, л. 24, 30].
Таблица 1 – Список членов и сотрудников Гомельского отделения Всебелорусского объединения художников (1927 г.)
| № п/п | Ф.И.О. | год рождения | национальность | образование | профессия | должность в объединении |
| 1 | Русецкий Николай Ефремович | 1885 | Белорус | Киевское художественное училище | преподаватель рисования | председатель |
| 2 | Ковровский Сергей Александрович | 1890 | Русский | ВХУТЕМАС (не закончено) | преподаватель рисования | заместитель председателя |
| 3 | Зорин Всеволод Владимирович | 1893 | Русский | Школа поощрения искусств в Петрограде | преподаватель рисования | секретарь |
| 4 | Голубкина Александра Петровна | 1902 | Русская | Ленинградская академия искусств | преподаватель рисования | член правления (казначей) |
| 5 | Шифрин Гигель Айзикович | 1903 | Еврей | ВХУТЕМАС | учащийся | член правления |
| 6 | Романовский Михаил Андреевич | 1863 | Русский | Ленинградская академия искусств | преподаватель рисования | член правления |
| 7 | Малец Николай Павлович | 1892 | Белорус | Пензенское художественное училище | преподаватель рисования | член ревизионной комиссии |
| 8 | Тарасиков Николай Лукич | 1908 | Белорус | Витебский художественный техникум | рабочий художественных мастерских | член ревизионной комиссии |
| 9 | Евмененко Александр Константинович | 1906 | Украинец | — | учащийся художественного техникума | сотрудник |
| 10 | Буринский Михаил Осипович | 19061903td> | Белорус | — | телеграфист на железной дороге | сотрудник |
В январе 1929 года гомельские художники приняли участие в третьей Всебелорусской художественной выставке, на которой были представлены работы С. Ковровского, Б. Звенигородского, Н. Тарасикова, Г. Шифрина (скульптура). Оргкомитет выставки отметил работы всех гомельских художников. Четыре работы Н. Тарасикова – «Автопортрет», «Рыбацкий уголок», «Лодка», «Новый человек» – были приобретены комиссией Белорусского государственного музея для коллекции и оценены по 10 руб. каждая [11, л. 4].
В начале 1929 года правление Гомельского отделения Всебелорусского объединения художников было переизбрано. Председателем стал Г. Шифрин. Основным направлением деятельности нового правления стало привлечение в объединение новых членов. В результате проделанной работы Гомельское отделение увеличилось. В его состав вошли работники историко-художественного музея имени Луначарского Антонов и Николаев, сотрудники газеты «Палеская праўда» Коваленок и Балашов, а также преподаватели рисования учебных учреждений города Звенигородский, Брозгунов, Кравченко, Росляков. Желая познакомить местное население с работой объединения, было принято решение организовать совместно с музеем имени Луначарского художественную выставку. Главной темой стала десятилетняя годовщина подавления Стрекопытовского мятежа. На первой художественной выставке, организованной в городе Гомельским отделением Всебелорусского объединения художников, состоявшейся в марте 1929 года, было продемонстрировано 30 работ. Первую премию получил С. Ковровский, вторую – Н. Тарасиков [15, л. 32].
В целом, с октября 1917 года начался новый этап в развитии художественной культуры Гомельщины, шёл процесс творческого поиска. Особенное влияние на рост культурного уровня населения оказывало изобразительное искусство как наиболее доступное в условиях неграмотной страны. Однако в первую очередь искусство играло роль, которую определило ему политическое руководство страны – агитация и пропаганда идеи строительства нового социалистического общества. Такая узкая направленность искусства не всегда способствовала воспитанию и сохранению моральных и духовных ценностей народа. Этот период в истории советской культуры был, несмотря на жесткий стиль управления правящей партии, временем расцвета и культурного плюрализма. Художественная жизнь Гомеля первого десятилетия советской власти была достаточно насыщенной, потому что в городе работали яркие, талантливые художники.
А.И. Зеленкова
Литература
- Кондаков, И.В. Культура России: краткий очерк истории и теории / И.В. Кондаков. – М. : КДУ, 2008. – 360 с.
- Гісторыя беларускага мастацтва. У 6 т. Т. 4: 1917–1941 гг. / рэдкал. С.В. Марцэлеў [і інш.]; рэд. тома Л.М. Дробаў, В.Ф. Шматаў. – Мінск : Навука и тэхніка, 1990. – 352 с.
- План работы Гомельского отделения союза Рабис на 1917 год // Государственный архив Российской Федерации. – Фонд. Р-5508. – Опись 1. – Дело 118.
- Бонелл, В. Крестьянка в политическом искусстве сталинской эпохи // Советская социальная политика 1920–1930-х годов: идеология и повседневность. – М. : ООО «Вариант», 2007. – С. 262–295.
- Воспоминания Я.С. Телешевского // Гомельский краеведческий музей. – Фонд 8.
- Протоколы собрания Гомельского губотдела профессионального союза Рабис 1919–1920 годы // Государственный архив Гомельской области. – Фонд 131. – Опись 1. – Дело 16.
- Отчеты Гомельского губотдела профессионального союза Рабис // Государственный архив Гомельской области. – Фонд 60. – Опись 1. – Дело 1926.
- Постановление первой губернской конференции работников искусств 21 сентября 1920 года // Государственный архив Российской Федерации. – Фонд. Р-5508. – Опись 1. – Дело 90.
- Докладная записка коллектива художественной студии им. Врубеля. 1921 год // Государственный архив Гомельской области. – Фонд 131. – Опись 1. – Дело 24.
- Отчёт о работе художественной студии им. Врубеля. 1921 год // Государственный архив Гомельской области. – Фонд 60. – Опись 1. – Дело 94.
- Воспоминания Н.Л. Тарасикова об учебе в Гомельской студии С. Ковровского // Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства. – Фонд. 122. – Опись 1. – Дело 245.
- Докладная записка о работе студии Е. Кравченко. 1926 год // Государственный архив Гомельской области. – Фонд 60. – Опись 1. – Дело 281.
- Акт комиссии по проверке работы студии Е. Кравченко от 18 сентября 1926 года // Государственный архив Гомельской области. – Фонд 60. – Опись 1. – Дело 281.
- Отчёты работы художественного отдела Гомельского окружного профбюро // Государственный архив Гомельской области. – Фонд 249. – Опись 1. – Дело 114.
- Протоколы заседаний административного отдела Гомельского окрисполкома. 1927 год // Государственный архив Гомельской области. – Фонд 161. – Опись 1. – Дело 42.
- Список членов и сотрудников Гомельского отделения Всебелорусского объединения художников. 1927 год // Государственный архив Гомельской области. – Фонд 161. – Опись 1. – Дело 42.
Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины, №1(70), 2012