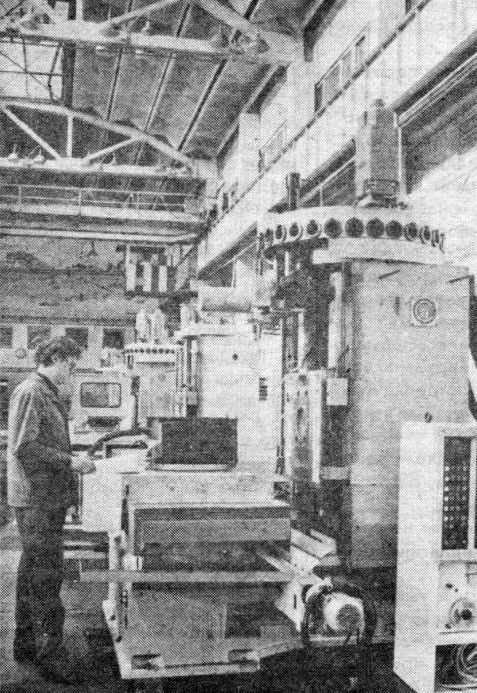В каком году началась Первая мировая война? Многие, без сомнения, ответят на этот вопрос. Но если поинтересоваться тем, сколько стоил килограмм соли в этом время или какова была зарплата рабочего, то вряд ли вы услышите что-то определённое даже от историков. А ведь такие, казалось бы, банальные сведения оживляют историю и позволяют, словно на машине времени, перенестись в далёком прошлое. Об отрезке повседневной жизни гомельчан начала XX века повествует воспоминания Ефима Рубцова, который происходил из рода потомственных кузнецов и жил в Спасовой слободе, ныне район улиц Пролетарской, Фрунзе, Плеханова, Комиссарова. Выдержки из его рукописей интересны и сейчас…
Копеечная жизнь
К 1914 году уровень жизни в городе можно ориентировочно оценить по следующим данным: фунт ржаного хлеба стоил 3 копейки (1 фунт — около 450 граммов), пшеничного — 5 копеек. За фунт мяса платили 15 копеек, сахар стоил столько же, а вот за фунт соли нужно было заплатить всего 1 копейку. Причём подённый заработок чернорабочего (кочегара, землекопа) в то время составлял 1 рубль, а женщин — от 50 до 80 копеек. Соответственно, за месяц мужчины могли заработать около 30 рублей и приобрести один шерстяной костюм или купить кожаные хромовые туфли за 20-30 рублей. Стоимость жилья была сравнительно высокой: 3-комнатная квартира стоила 10 рублей в месяц. Столько нужно было уплатить за проживание в частной квартире, ведь в начале XX века государственных квартир в Гомеле практически не было. Лишь железнодорожное ведомство строило казённые квартиры и селило в них своих рабочих высокой квалификации и служащую интеллигенцию.

Обычным местом гуляний для молодёжи являлся парк дворца Румянцевых и Паскевичей, где за 10 копеек можно за 10 копеек можно было по субботам и воскресеньям послушать военный духовой оркестр. У вокзала, пристани и базаров находились стоянки извозчиков — отдельно для легковых и для ломовых (грузовых). За проезд в один конец легковые брали от 10 до 50 копеек в зависимости от расстояния или 50 копеек за час. Естественно, извозчиками пользовались состоятельные люди — торговцы, юристы, врачи. В случае болезни, спешки с вещами на вокзал или пристань извозчика нанимали и бедняки. На осенних ярмарках весь город превращался в один сплошной базар. Мы закупали картофель, огурцы и капусту. Кстати, мешок огурцов стоил три рубля, за воз картошки из 10-12 мешков платили 35 рублей. Зарплата отца, кузнечного мастера, была высокой — около 600 рублей в месяц. Постепенно к 1920-м годам она поднялась до 800 рублей.

Лебединое мыло
В обычные дни на окраинах города, носящих неофициальные броские названия: Америка, Кавказ, Спасова слобода, звучала призывная реклама от маляров, трубочистов, печников, точильщиков, стекольщиков, медников, лудильщиков, пильщиков дров, мороженщиков и комиссионеров с чемоданчиками, в которых были разложены образцы товаров. Раздавались эти призывы не просто так, а, я бы сказал, музыкально. Причём «мелодия» призыва у разных мастеров слышалась похоже: «Ножи-ножницы точить, пилы нарезать!», «Трубы чистим!», «Крыши красим!», «Кому мороженое — три копейки, пять копеек!». Это была настоящая и всеобъемлющая служба быта, без очереди, с доставкой на дом, немедленно и на выбор. По домам ходили шарманщики, которые играли простенькие мелодии и при помощи попугаев, обезьянок и белых мышей «гадали» судьбу. Заходили и китайцы с роскошными бумажными цветами, китаянки в крошечных зелёных туфельках. Они продавали вееры, цветы и небольших лебедей, которые сами двигались по воде. Птицы изготавливались из мыла, и по мере его растворения создавалась реактивная тяга, за счёт которой они двигались. По базарам, центральным улицам и даже на окраинах бегали мальчишки-лоточники, которые продавали маковники, ириски, карамельки-подушечки и папиросы. А там, где рядом не было колодцев, — трудились ребята-водоносы. Вся эта мальчишеская братия формировалась, как правило, из детей еврейской бедноты. Они уже имели свой «гешефт», что значит собственное дело или бизнес. Подражая взрослым, дети звонко рекламировали свой товар: «Вот ирис, кому ирис — на копейку пара!».
Тротуары оберегала полиция
Все железнодорожные дома и служебные постройки вплоть до будок стрелочников были окрашены в железнодорожный цвет — жёлтый. Весь город, за исключением центра, был одноэтажным. Интересно, что хлебных магазинов в ту пору не было. Каждая хозяйка пекла хлеб дома. А вот булочных было много, несколько десятков. В них, как правило, продавались пирожки и кондитерские изделия. Центральные улицы не были загружены транспортом. По деревянным тротуарам и мостовым двигались довольно редкие прохожие. Но зато в районе базаров, лавочек и магазинчиков шумела многолюдная толпа. Раз в неделю на нашей улице появлялся городовой — рядовой городской полиции в серо-синей форме, с наганом в кобуре и шашкой на боку. Он делал обход с целью наведения порядка. Смотрел за чистотой и уборкой улиц, целостностью заборов и палисадников, состоянием деревянных тротуаров, помоек и отхожих мест, освещением и чёткостью номеров домов. Одновременно полицейский проверял режим прописки, беседовал с потенциальными нарушителями порядка. Впрочем, одного дебошира Евсея служитель закона избегал и даже прятался от него. Это был неработающий мужчина, награждённый когда-то орденом, за который получал 25 рублей и принципиально их пропивал. Пьяным он шумел, ругался, хулиганил и так шествовал домой. Городовой же не имел права, как мне объясняли, из-за прошлых боевых заслуг, его задерживать. Правда, вскоре в связи с повышением цен ветерану стало не хватать денег, и он устроился на работу.
Пили по визитке
С шумом, грохотом, свистом и уханьем один-два раза в год по улицам проходили группы пьяных парней. Трещали палисадники и заборы. Напуганные жители скрывались во дворах, некоторые закрывали ставни, чтобы не разбили окна. Такой своеобразный ураган случался обычно в крупный религиозный праздник. Парни закупали визитные карточки, некоторые раскошеливались на типографию, аккуратно вписывали свою фамилию, имя и отчество, а затем нанимали на весь день извозчика, насколько я помню, за три рубля и начинали визиты. Останавливаясь у очередного дома, где жило уважаемое лицо, визитёр заходил к хозяевам, которые приглашали его к столу, выпивал пару рюмок, раскланивался и ехал дальше.

Если же его к столу не приглашали или попросту не хотели видеть, то молодой человек клал свою визитную карточку на поднос и удалялся. Иногда он пользовался графином и рюмкой с визитного столика. К вечеру гость, бывало, уже не мог самостоятельно двигаться, и ему помогал извозчик. Кстати, пиво и папиросы имели интересную особенность — на пробке и на коробке внутри ставился выигрышный номер, дававший право получить бесплатно пять пачек папирос и полдюжины бутылок пива. Конечно, такой счастливый номер был один на тысячу бутылок или ещё реже.
(Продолжение следует)
Подготовил Дмитрий Чернявский. Фото из архива Татьяны Михалик и Александра Ласицы.
Гомельские ведомости, 14 января 2012